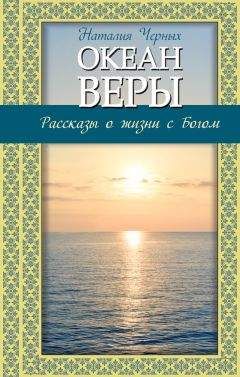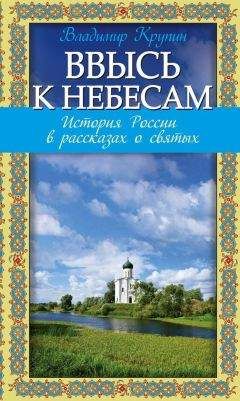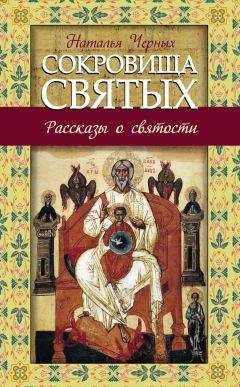— Бабушка Груня — это груша? — спрашивает Ванечка.
— Нет, — улыбается мама, — Груня — это Аграфена! Драгоценное имя. Неописуемая.
— Во как, — смеется Ванечка, — И какая же у ней сказка должна быть!
— А ты — слушай!
Тут сказка начинается, сказка бабки Аграфены.
— Вот тебе, Ванечка, окно, а на нем, как видишь, желтые сосновые ящики, а в них — помидоры. В одном — длинные, пахучие, раскинули веточки, и плоды на них. Небольшие, комнатные, но все равно — плоды. Алые. В другом же ящике — только-только стебли прорезались, светлые и очень тонкие еще, едва принялась здесь рассада. А как получилось, что растения — разные: одни большие, а другие — маленькие? От времени? Да, от времени. А в остальном — все то же: и земля одна, и вода одна, и руки — мои. Но вот те — ранние, сейчас кушать и срывать будем, а эти — поздние, им еще ох сколько трудностей преодолеть надо, прежде, чем вкусить от них можно будет. А так кто посмотрит — ну что за хлопоты. Все окно в плетях помидоров, и запах от листвы по всей квартире. Кому — воняет, а кому — нравится. Я вот люблю помидоры.
Господь им жизнь дал, в мир идти позволил, но в силах ограничил
Жили на свете издавна Кривда, Печаль и Боль. Неразлучная шайка разбойников. Как они на свет появились, что у них за мать и отец были, никто не знает, ни одному святому то не ведомо, а ведомо только Господу. Господь им жизнь дал, в мир идти позволил, но в силах ограничил.
— Ты, Кривда, — сказал, — великую над человеком власть имеешь. С тобой человеку везде путь открыт. У тебя все пропуска на руках и все двери меченые, в любой тебя знают и в любую впускают. В честном бою тебя не одолеть, да и не надо тебя одолевать. На тебя одна управа есть — время. Сколько ты ни живешь, конец твой Мне известен, и конец этот — забвение. Одна от тебя польза есть. Ты без Правды-Истины не бываешь; если ты где возникла, там — Правда-Истина недалеко. Где ты охотишься, там Истина живет, ибо ты на нее только и охотишься.
Кривда, точно — добрый стрелок. И одет к лицу, и речь у него ласковая. Посмотришь на лицо — вспомнишь о старом друге, вот он — такой же был. Кривду все за доброго знакомого и друга принимают.
— Ты, Печаль, — сказал Господь, — Вширь сильно раздалась, грузная очень. Грузность твоя тебе помогает добычу придушить, на нее навалившись, но в быстроте ты сильно своим собратьям уступаешь. Но тебе ж быстроты и не надо; ты как накатишь, так и не отпустишь до самой смерти. На тебя то и управа, что мысль о смерти. Кто думает о смерти, тому Печаль не ведома. Вот когда ты у Покаяния полы мыл, тогда при деле был. А теперь одно разоренье от тебя.
Печаль ростом — под облака, в плечах — как горный кряж, а сапоги у него каменные. Он и дубинку-то не часто берет на разбой, ему кулака хватает. Но ленив. Спасть любит, поесть любит. Сладкое, а порой и вина выпить, немало вина.
— Ты, Боль, — снова заговорил Господь, — из собратьев твоих самый скорый, самый сильный. Но ты как ветер. Нашел — и потом утих. Но бывает, что берешь за самое сердце — тогда человеку смерть. Что твои собратья недоделали, ты довершаешь. У тебя помощники есть — болезни. Много их. Но уж если кто с тобой знаком, тот с двумя твоими собратьями справится.
У Боли — секиры и ножи. И шапка татарская. У Боли — зелий целый мешок. И действует он наскоком, сразу, мгновенно. Но бывает, что долго выслеживает, изматывает нарочными выстрелами, чтобы во всем теле болезненный огонь развился. Он так человека заморочить может, что все мысли погибнут и сердце опустеет.
— Ну что же, братушки, — молвил Господь, — дело ваше. Гуляйте, раз гуляете, ко Мне идти не хотите. Однако вот вам работа. Живет в дальней горе за дальним лесом Овчина. Но не Овчина это, а каторжник, бедный человек, вам знакомый. В жизни своей он немало злодеяний совершил, но покаялся и о каторге своей не жалеет. Я хочу его в Свой Рай взять, в который Разбойник со Мною Крестной Мукой вошел. Уже близко кончина Овчины. Дам я вам коней — всякие искушения. И вы поезжайте к Овчине, чтобы его испытать: остался ли он Мне верен.
— Что Ты, Господи, — возмутился Кривда, — Или не благ Ты? Верного своего Овчину к страданиям Сам готовишь. Или крови на Тебе мало?
— Вся кровь — Моя, — отвечал Господь, — и не твое, Кривда, дело, Мою Кровь отмывать.
Припомнили Кривда, Печаль и Боль, как при Воскресении Господь сатане хвост связал, и им тоже хвосты связал — приковав их к самому даль нему адскому камню, чтобы, когда адище зев раскроет, хвосты эти ему поперек зева встали. Подумали, и поехали к дальней горе за дальний лес — Овчину навестить. Долго ехали, всех коней загнали, все искушения перепробовали. Все прошли — и дожди проливные, и дожди обложные, и реки быстрые, и жар огненный, и леса частые.
В. М. Васнецов. Христос-Вседержитель. 1885–1896 гг.
Овчина тем временем каелкой помахивал, камни вырубая из горы, гранит. У него способность была счастливая — он этот гранит будто под почвой видел. Люди, с кем он в бараке сидел, разговорчивые. От горя склонность к беседам развивается, а еще если вина выпить — всю ночь говорить можно. А Овчина на слова товарищей улыбается и почти всегда молчит. За то и прозвали — Овчина. Будто что он своей тихой улыбкой невесть что прикрывает. Каторжники Овчину уважали. Он все умел: готовить вкусно, чинить одежду, спички достать, боль заговорить. Все умел. И никогда никому ни в чем не отказывал. О прошлом своем злодейском помалкивал, но видно было по глазам — не тронь, убить может. Овчина и сам своих рук боялся: они как против воли его сами ходили. Хлоп — и нет замка. Бац — и пес в предсмертном визге зашелся. Но Овчина зверье любил и старался всякого бесхозного обогреть и накормить. То у него снегирь живет, а однажды зимой и вовсе волчицу притащил. Сдохла серая, ранена была, но Овчина над нею бился как над дочкой, лечил и кормил. Когда умерла, закопал за дровяным складом и даже плакал.
Я хочу его в Свой Рай взять, в который Разбойник со Мною Крестной Мукой вошел
Долго ли коротко, пришли Кривда, Печаль и Боль к острогу, в котором Овчина время свое коротал.
— Ну, — Кривда говорит, — сейчас вина возьму побольше, да и с его товарищами поговорю. Все расскажу, про его лицемерие и тайные замыслы. Все поведаю, что он о них думает и говорит начальникам.
— А я, — сказал Печаль, по голове его за добрые дела поглажу. Грустно ему станет, ох, грустно. Затоскует навек.
— А я, — сказал Боль, — тело его жгучей проволокой обовью, когда уснет. Ни рукой, ни ногой пошевелить не сможет.