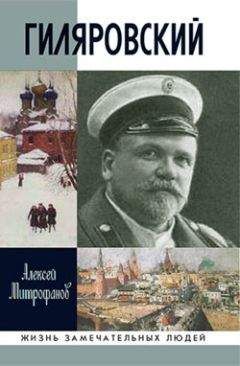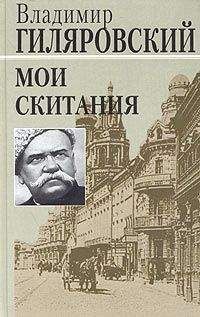Неожиданно что-то загремело, послышалась отчаянная ругань, затем все смолкло, и снова гнетущая тишина…
— А за забором в длинных казармах спят люди, — сказал мне отец, — и ночь не снимет с них усталости».
Странным получился тот подарок — ни Спасского монастыря, ни крепостной стены и башен, ни прекрасной набережной, ни театра Волкова — ничего того, что в этом городе осматривали и осматривают ныне многочисленные путешественники. Но Наденька не огорчалась — ведь отец ее возил по местам «своей боевой славы», и ей, любящей дочери, все это доставляло удовольствие.
* * *
В 1904 году началась Русско-японская война. Это, конечно, ознаменовалось усилением цензуры — во времена военных действий гражданские свободы ощутимо урезаются, всегда и всюду. Из столицы в Москву прибыл начальник Главного управления по делам печати Н. А. Зверев. И собрал редакторов, чтоб объяснить им что и как. В этой компании был и Владимир Алексеевич, в качестве редактора журнала «Спорт».
— Что это вам далась какая-то конституция! — кипятился Зверев. — Что это, господа? В такое время! Или у вас нет тем? Писали бы о войне, о героических подвигах. Разве это не тема, например, сегодняшний факт — сопка с деревом!
Выйдя из кабинета, Гиляровский порадовал своих коллег свежим экспромтом:
Вот вам тема — сопка с деревом,
А вы все о конституции…
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции…
Ишь какими стали ярыми
Света суд, законы правые!
А вот я вам циркулярами
Поселю в вас мысли здравые,
Есть вам тема — сопка с деревом:
Ни гу-гу про конституцию!
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции…
Наш герой лишний раз подтвердил репутацию смелого балагура-интеллектуала.
Война же послужила материалом для очередного журналистского расследования. На сей раз оно касалось гнилых ниток, которые отпускали интенданты на пошив одежды для солдат. Один из журналистов, Н. Шебуев, так писал об этом: «Отнюдь не иваново-вознесенскими забастовками вызван ниточный кризис в здешнем интендантстве. Честь его открытия принадлежит неутомимому, вечно юному всемосквичу В. А. Гиляровскому. Сейчас я был у него и видел наделавшие такого переполоха в интендантстве „инкриминируемые“ нитки, видел письма, которые валятся к нему со всех сторон каждый день. Взял даже себе на память пучок ниток, рвущихся, как паутина, и несколько красноречивых писем. Этими нитками, гнилыми и никуда не годными, сшиты миллионы солдатских рубах, штанов, халатов. Работы исполняются конторами, взявшими на себя подряды, а конторы от себя сдают работу несчастным женщинам, получающим пятак за шитье рубахи, пятак за пару штанов, двугривенный за халат. Нитки конторы заставляют покупать у себя. На пошивке вещей и на нитках, на этом грошовом предмете, наживаются чудовищно».
Вот это — тема! А то — «сопка с деревом».
Вообще-то Владимир Алексеевич был знатный балагур, экспромтщик и душа компании. Время научило его чувству такта. Понял, что веселиться и смешить других не обязательно за счет унижения и неприятностей других людей. Николай Морозов вспоминал: «Хорошо знавшие Гиляровского не представляли его себе без шуток и острот. Подобно чуткому сейсмографу, отмечающему малейшие колебания почвы, он отзывался экспромтами на всякие случаи жизни… Всегда бодрый и веселый, Гиляровский не терпел всяких хлюпиков и унывающих. Он говорил: „Мир существует миллионы лет. Сколько за это время было скуливших, потерявших присутствие духа, но никому от этого не было легче!“
У него был свой рецепт долголетия: «Никого и ничего в жизни не бойся и никогда не сердись — проживешь сто лет!»
В обществе он любил вызывать у всех подъем, вносил бодрое и веселое настроение. Экспромты и остроты срывались у него с языка то и дело, всегда меткие и остроумные. В хорошей компании, да еще за стаканом хорошего вина, он исписывал экспромтами скатерти. Сам он и посторонние часто экспромтов его не записывали, и потому, к сожалению, многие из них остались в нетях.
Часто писал он на темы, задаваемые ему. Каких только тем ему не предлагали, чтобы испытать его мастерство или поставить в тупик!
Вот тема: урядник и море — слышит он.
Немного подумав, он пишет и на эту тему:
Синее море, волнуясь, шумит,
У синего моря урядник стоит,
И злоба урядника гложет,
Что шума унять он не может.
Высокой поэзией это, конечно же, не назовешь. Но вполне способно поднять тонус заскучавшего застолья.
Кстати, стихотворчество настолько захватило Гиляровского, что он ввел в своем доме такую игру. Домашние и гости усаживаются в круг, и кто-нибудь из них произносит четверостишие. Следующий игрок тоже должен произнести четверостишие, но так, чтобы оно начиналось со слова, которым заканчивалось предыдущее.
Способности к стихосложению от этого, естественно, не увеличивались, но память, безусловно, улучшалась».
В том же 1904 году Владимир Алексеевич вдруг проявил интерес к жизни выпускниц московских акушерских курсов. Выяснилось, что их будущее не такое уж и светлое, как представлял это официоз: «Два года жизни впроголодь. Два года беспрерывной работы при напряженных нервах, работы часто без сна, неделями не раздеваясь.
В маленькой дежурной комнатке с четырьмя кроватями и столом посредине их помещается день и ночь тринадцать, а иногда сорок.
Сидят разговаривают. Устало дремлют вокруг стола. Пьют чай иногда только с черным хлебом. Кто что принесет из дома. Днем им дают на дежурстве по тарелке супу и по котлетке, но не на всех, а на половину собравшихся. И они делят пополам все, что принесут им.
Ночь. Они дремлют вокруг стола или по четверо спят поперек кровати в своей дежурке. Кое-как, до первого крика больной. Вдруг звонок от швейцара. И дежурная, уже сутки не спавшая, вскакивает и бежит вниз».
Все интересовало нашего героя.
* * *
Например, полет на самолете. Как тут устоять!
«Знаменитый… мой старый друг и ученик по гимнастике авиатор Уточкин делал свои первые московские полеты на Ходынке на неуклюжем своем „фармане“, напоминавшем торговый балаган с Сухаревки. Впереди — отгороженное место авиатора, сзади — совсем не отгороженная деревянная скамья обыкновенная, без спинки и ручек, табуретка, прибитая гвоздями к двум деревянным продольным балкам-полозьям — основанию аэроплана. Чтобы сесть на эту табуретку, надо было пробраться между сети тонких проволок, что я и сделал с трудом, с моей широкой фигурой, и поместился на очень маленькой табуреточке, закрыв ее всю и поставив ноги на дощечку, для этой цели положенную поперек перекладин. Приветствия, пожелания провожающих в полет, который первый в Москве, в виде опыта, предложил мне по-дружески Уточкин… Потом рев пропеллера, тряска и прыжки колес по неровной Ходынке. Вдруг — чувство, что сердце встало и дыхание захватило: я оторвался от земли! Затем аппарат плавно двинулся по воздуху вверх. Ощущение, когда земля проваливается под ногами, я уже испытал и прежде, при подъеме на аэростате, но эта ужасная табуретка! Но эти — еще ужаснее — проволоки, за которые при каждом крене поворота хочется схватиться, так и тянут руки к себе! Подо мной скачки… Я вижу толпы на трибунах. По зеленому кругу цветные камзолы жокеев, выезжающих на старт. А далее Москва, Москва с ее золотыми куполами, садами, кольцом Садовой. А все-таки жутко… Я уже омосковился, отвык от бродяжных рисков юности. То и дело руку тянет к погибельным проволокам».