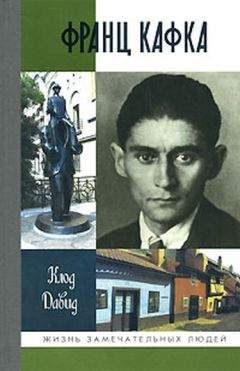Несколько дней спустя Кафка сам исправляет некоторые детали этого портрета. Юлия оказалась еврейкой в большей мере, чем он предполагал: она была невестой юного сионистского активиста, убитого на фронте; ее сестра посещала еврейские конференции, ее лучшая подруга была усердной слушательницей лекций Макса Брода.
Впоследствии стало возможным собрать о Юлии несколько дополнительных сведений. В момент встречи с Кафкой ей было двадцать восемь лет, а ему тридцать шесть. Ее отец по профессии был сапожником и состоял также в качестве Schammes, то есть служки, в одной из синагог пригорода Праги. Юлия держала в городе небольшой шляпный магазин. Через несколько лет после связи с Кафкой ее встречают в Велеславене, где ее след окончательно теряется. Велеславен, как известно — психиатрическая клиника, куда отец Милены Есенской упрятал свою дочь, чтобы помешать замужеству, которого не одобрял, или по меньшей мере отсрочить его. Но о поступлении Юлии Вохрьщек в это заведение нет никаких подробностей.
Кафка рассказывает: когда он и Юлия встретились в коридорах пансиона Стюдл, оба они были охвачены неудержимым сумасшедшим смехом. Поскольку Кафка, еще полностью пребывавший под гнетущей властью недавнего прошлого, опасался ввязываться в новое приключение, они оба решили избегать друг друга и даже отказались садиться за стол в одно и то же время. Это была не очень удобная ситуация для дома, в котором они были двумя единственными пансионерами, но им удалось настоять на своем.
Кафка покинул Шелезен в конце марта; Юлия уехала на двадцать дней раньше него, следовательно, вместе они провели всего лишь шесть недель. Но, едва вернувшись в Прагу, они начинают встречаться. «Дневник», который в эту пору содержит лишь несколько весьма спорадических заметок, указывает, например, 30 июня: «Был в Ригерпарке. Прогуливался с Ю. среди кустов жасмина. Лживость и правдивость, лживость во вздохах, правдивость в скованности, доверчивости, чувстве защищенности. Беспокойное сердце». И несколько дней спустя: «Все те же мысль, желание, страх. И все-таки я спокойнее, чем обычно, словно во мне готовится великая перемена, отдаленную дрожь которой я ощущаю». В этой же самой записи Кафка тот же час фиксирует свою чрезмерную откровенность и добавляет: «Слишком много сказано». Таким образом он оказался во власти своей игры: то, что вначале представало как влюбленность без последствий, мало-помалу приняло серьезный оборот. Как обычно, тут примешивается комизм, присущий его чувству, но чувство, однако, увлекает его туда, куда вначале он и не помышлял направляться. Юлия, согласно Кафке, не желала брака. «У нее смутное желание блестящей жизни, светской жизни, удовольствий /…/, это желание, возможно, могло бы быть удовлетворено посредством холостяцкой жизни; оно, безусловно, не могло бы реализоваться через ординарные возможности, которые предоставил бы ей брак». Она отказалась также от планов иметь детей. Но для Кафки, как известно, не существует никакого другого подлинного отношения между мужчиной и женщиной, кроме брака, никакого другого будущего, кроме семейной ситуации с большим, по возможности, количеством детей. И все же при всем своем отношении к Юлии, вышедшей из простой среды, в которой еще говорят на идиш, к этой молодой женщине, невежество и фривольность которой он подчеркивал прежде всего, он уступал ее отказу от благоустройства и от буржуазных условностей, всегда присущих ему. Но, прося ее выйти за него замуж, он повиновался другой, столь же властной тенденции, суть которой заключалась в страхе беспорядка, в желании вписаться в естественные рамки, которые он считал единственно законными. Юлию, похоже, нетрудно было переубедить: она согласилась с мыслью о браке. В письме, посланном в ноябре 1919 года сестре Юлии, единственном подлинном документе об этом долгом приключении, он, говоря об осторожном поведении, которое Юлия и он соблюдали по отношению друг к другу в Шелезене, пишет: «Эти отношения не могли долго поддерживаться между двумя существами, которые так глубоко и так интенсивно совпадали, как мы оба, двумя существами, так властно подходящими друг другу, так необходимо соединенными в радости и страдании». Франц Кафка и эта хрупкая простушка — «так властно подходящие друг другу»? Кто здесь обманывает, если не он сам, желающий отрезать себе дорогу назад? Как бы там ни было, но они принимаются за поиски жилья, публикуют объявление о бракосочетании. Кафка сообщает своему отцу о предстоящем браке. Пятью годами раньше Герман Кафка легко согласился на обручение с Фелицей Бауэр: навели, как принято, справки, и Фелица показалась приемлемой партией. Но на сей раз это уже было слишком: преуспевающему негоцианту, который держит лавку во дворце Кински на самой красивой площади, предлагают в невестки дочь сапожника из предместья Вдобавок ко всему момент был выбран более чем неудачно, поскольку несколькими неделями раньше ему пришлось принимать у себя Жозефа Давида, нееврея, тоже выходца из скромной среды, за которого Оттла решила выйти замуж. На сей раз Герман Кафка взрывается: замысел его сына кажется ему неразумным, и, действительно, можно усомниться, так ли уж он был не прав. Франц Кафка собирался осуществить в жизни вымышленную ситуацию, которую он описал семь лет назад в «Приговоре»: ужасный отец запрещает женитьбу; если он не приговаривал своего сына к смерти, он делал ему по меньшей мере жизнь невозможной, он вставал на его жизненном пути со своей священной властью, со своим непререкаемым авторитетом. Именно по случаю этого события, и только лишь из-за него, Кафка решается в ноябре 1919 года (в Шелезене, где он снова проводит несколько дней) написать знаменитое «Письмо отцу»: задуманная им женитьба была безнадежной, и он не замедлил это понять; иначе как бы он смог словами компенсировать столько недоразумений, убедить отца, который так мало сомневался в самом себе, оправдаться в такой момент, когда вся жизнь так горестно афишировала его поражение? Он быстро отказался от передачи адресату этого письма, которое могло бы лишь усилить конфликт. В «Приговоре» старый Бендеман кричал: «Только потому, Что она задрала свои юбки вот так — эта отвратительная гусыня, — потому что она задрала свои юбки вот так, и вот так, и вот этак, только поэтому ты втюрился в нее, и, чтобы ничто не мешало тебе удовлетворить свою похоть, ты осквернил память нашей матери и предал своего друга». Кафка пишет в «Письме отцу»: «Еще одно свидетельство Твоего полного непонимания: как можешь Ты думать, что я — робкий, нерешительный, мнительный — мигом решусь на женитьбу, очарованный, скажем, кофточкой». Любопытно предположить, что же за скрытые мотивы таились за этим столь ранящим диспутом. Возможно, Кафка нашел с Юлией Вохрыцек то физическое равновесие, которого его лишили долгие годы воздержания. Время от времени «Дневник» свидетельствует, что он мучим неудовлетворенными желаниями. Естественно, в таких вещах нельзя ничего утверждать безоговорочно, но за строчками такого необычного сочинения, каковым является «Письмо отцу», нельзя не ощутить жестокой травмы. Быть может, оттолкнули Кафку упреки и сарказмы, обрушившиеся на него в один из тех редких моментов, когда он почувствовал себя «примиренным с сексом». Он достаточно мало уважал Юлию, чтобы, возможно, любить ее без страха. И снова здесь придется довольствоваться только предположениями.