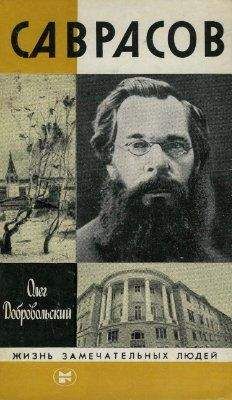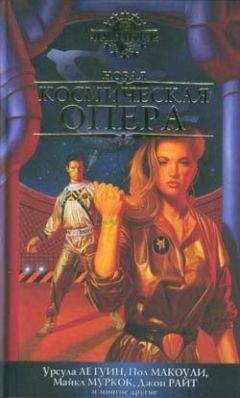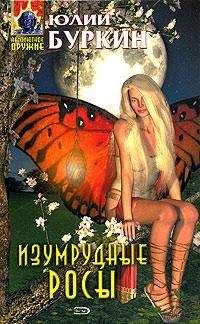Померанцев просил вице-президента оказать помощь Саврасову, полагая, очевидно, что лучшей формой такой помощи будет назначение ему пенсии. И этот сигнал бедствия тоже не был услышан. Он не пробудил милосердия в надменно-эгоистичных людях, стоявших во главе Академии художеств. Единственное, что сделала петербургская академия, — послала Саврасову, и то лишь через год, денежное пособие — 100 рублей. Вместо пенсии — разовая подачка.
В декабре следующего, 1895 года благородный человек с грузинской фамилией А. С. Разиадзе обратился с письмом к Третьякову. Письмо это было следующего содержания:
«…Старик Алексей Кондратьевич Саврасов в настоящее время доживает свой печальный век в такой бедности, в таком бедственном положении, на которое невозможно смотреть равнодушно. Последние годы он работал по мере сил и мог еще кое-как перебиваться, но вот уже около года, как он ослаб настолько, что работать почти не может; теперешняя жизнь его похожа на медленное умирание. Он получает от Общества месячное пособие в 25 рублей, но можно ли существовать на эти деньги вчетвером, имея двух малолетних детей?
Конечно, если обратиться к прошлому, то нельзя не признать, что в теперешнем своем бедственном положении художник виноват сам, что причиной всему послужила его несчастная слабость; но, с другой стороны: какой же горькой бедою и пришлось ему искупать свою вину! Теперь, когда к концу дней своих ему удалось победить эту слабость, на него поистине жаль смотреть — так ужасно его положение.
Если не к Вам, рука которого всегда щедро открыта для художников, то к кому же обратиться в настоящем случае? Я и делаю это, но делаю без ведома Алексея Кондратьевича, который, быть может, и не решился бы сам беспокоить Вас».
И в конце автор письма сообщал подробный адрес Саврасова — между церковью Смоленской божьей матери и Бородинским мостом, во 2-м Тишинском переулке, дом Разживиной, квартира № 7. Павел Михайлович Третьяков, не в пример Академии художеств, быстро откликнулся на это письмо и послал Саврасову значительную сумму денег, которая явилась существенной поддержкой дня него и его семьи.
В доме по 2-му Тишинскому переулку художник, ослабевший, полуслепой, отказавшийся от своей злосчастной привычки, провел последние почти два года, отпущенные ему судьбой, вместе с Евдокией Моргуновой и маленькими детьми. Он уже не может работать. Кисти, краски, карандаши теперь ему уже не нужны. В углу стоит мольберт, покрывшийся паутиной. На полу у стены — несколько неоконченных этюдов, два-три подрамника с натянутым холстом, большая папка с рисунками.
Саврасов, в просторней и длинной темной ситцевой рубахе, в мятых полосатых штанах, в калошах, надетых на босу ногу, сидит на кровати, застеленной розовым одеялом. На металлических спинках кровати четыре облезлых пожелтевших шара. Алешка и Надюша играют, сначала мирно, потом начинают ссориться. Мальчик хочет вырвать из рук сестренки матерчатую куклу с растрепанными льняными волосами, но она не отдает, держит крепко. Все же ему это удалось, и Надя плачет, ревет. Старый отец начинает ее успокаивать. Он велит сыну вернуть ей куклу.
Дети, поиграв, поссорившись и помирившись, идут на кухню, где их мать готовит обед и откуда через дверь тянет запахом щей и жареного лука. Саврасов продолжает сидеть на кровати, ссутулившись, наклонив свою большую голову и опершись руками о колени. Его руки, темновато-красные, со вздувшимися венами, с длинными, когда-то тонкими и ухоженными пальцами, кажутся огромными. Он понимает, что конец близок, но не чувствует ни жалости к себе, ни обиды. Смерть может быть жестокой и беспощадной нелепостью и может быть избавлением. Все зависит от того, когда и к кому она пожелает явиться. Природа мудра и дальновидна: если человек устал жить, то ему лучше уйти. Навсегда. Совсем. Хорошо умереть, не страдая. Заснуть и больше не проснуться.
Алексей Кондратьевич тяжело переносил свое вынужденное бездействие. Тем более что последние лет пятнадцать он работал не покладая рук, чрезвычайно много.
Раньше, когда он преподавал в училище и у него было постоянное жалованье и еще частные уроки, он мог работать для себя, делать то, что ему хотелось, нравилось, мог думать, бродить с этюдником в окрестностях Москвы, выискивая в природе нужный ему мотив. Теперь он вынужден писать и писать, безостановочно, постоянно, чтобы заработать на жизнь. Ведь после того, что с ним произошло, ему стали платить за этюды и картины в десять, а то и в двадцать раз меньше, чем прежде. Распространялись слухи, что художник погубил свой талант. Поэтому пусть получает за свое теперешнее искусство то, чего оно стоит. Но вот что интересно. Те самые люди, которые говорили об этом, распускали подобные слухи, продавали приобретенные ими за бесценок полотна Саврасова с огромным для себя барышом. Профессор архитектуры Померанцев доказал это с помощью неопровержимых фактов. Так в чем же дело? Или художник все же оказался в творческом тупике, утратил свое мастерство? Вопрос этот непростой.
В последний период жизни Саврасов создал очень много, но все это весьма неравноценно по своему художественному уровню. В своем позднем творчестве он нередко использовал приемы романтической живописи, достигая чисто внешнего эффекта; стремился к резкой, почти назойливой яркости красок; появилась некоторая грубоватость письма, нарушилась гармония. Но он написал немало полотен, в которых можно было узнать прежнего Саврасова, «клеймо» мастера. Были и просто удивительные вещи. И вместе с тем — бесчисленные, не поддающиеся учету, так называемые, «рыночные холсты», на которых есть, к сожалению, подпись автора. К сожалению — потому что это откровенно ремесленнические работы, написанные в один присест, небрежно, непродуманно. От этого никуда не уйти. Это было. Впрочем, картинки эти не могли не нравиться обывателю и очень недурно выглядели на стенах его тесной квартиры с фикусом, геранью на подоконнике, горой подушек на кровати, с поющей канарейкой в клетке. Пейзажи на потребу мещанского вкуса: слащавые до приторности «зимки» — заснеженное поле, лес в ядовито-красном свете зари, уютные избушки с заваленной снегом соломенной крышей, освещенные луной; весенние березки и ярко-зеленые лужайки… Для всех этих небольших картин вполне годились аляповатые позолоченные рамки, изготовлявшиеся в специальной рамочной мастерской, куда захаживал Саврасов. Там нередко он и писал эти пейзажи, которые потом продавались на Сухаревском рынке по нескольку рублей за штуку. Заплатишь два-три рубля, и на вот, получай красивую картинку в красивой рамке.
Вот запечатленная современником сцена — одна из полулегенд, полубылей, сохранившихся о Саврасове.