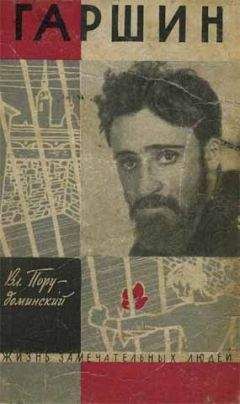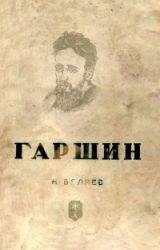Странно получилось! Как же связал себя Аггей с общей жизнью? Не пошел «в народ», чтобы улучшить эту общую жизнь. И не понес народу своего знания. И даже не «опростился», не растворился в народе, а словно бы вообще из жизни, ушел. Работал «на бедных, слабых и угнетенных», а для общей жизни, в которой жили они, ничего не сделал.
Гаршин начал писать Аггея, как Алексея Петровича. Но если бы он кончил Алексея Петровича, как Аггея, — что стоил бы уход героя «Ночи» к человеческой массе!
…Странно получилось.
Гаршин вспомнил, как читал свое «Сказание» в неофилологическом обществе.
Молодежь тогда спорила с ним, упрекала за то, что по-своему переделал конец легенды. Студенты кричали: «Это эгоизм! Вместо того чтобы служить народу, Аггей спасает свою душу! Мудрый царь может больше принести добра, чем простой нищий!» Гаршин пожимал плечами: «Не знаю, как у меня получился такой конец. Я пережил жизнь Аггея и не мог закончить ее иначе».
Да, странно!
Гаршин вспомнил, как потом ходил объясняться в цензуру. Важный чиновник обстоятельно рассказывал ему, почему запрещено отдельное издание «Аггея».
— Здесь проводится мысль, что ни богатство, ни верховная власть не прочны… Властелин (цензор строго взглянул на Гаршина и поднял палец) останется голодным и раздетым! И что же! Когда господу угодно будет вернуть, наконец, власть законному государю, тот откажется от нее, останется с народом, чтобы заниматься мужицким трудом. Нет, господин Гаршин, конечно, не имел в виду… Но в малообразованной среде рассказ наверняка будет истолкован превратно — в ущерб значению царской власти…
Гаршин ушел, избегнув рукопожатия. Странно!
Гаршин вспомнил: в «Посреднике» ему говорили радостно:
— У вас более по-толстовски, чем у Толстого.
Он только тогда узнал, что Толстой тоже работает над легендой. Говорят, прочитав гаршинского «Аггея», Лев Николаевич забросил своего. Значит, решил, что лучше не напишет; значит, признал гаршинского «Аггея» своим.
А Гаршин вовсе не собирался разделять толстовские «благоглупости»!..
Гаршин не заметил, как снова остановился у старого, затерявшегося в траве рельса.
Итак, двое сидят и курят трубочки на краю железнодорожного полотна.
Семен говорит:
— На все воля божья. Василий не соглашается:
— Люди виноваты.
Два человека ищут пути в жизни, пути к счастью. Не правители, а те, которыми правят, — бедные и угнетенные. Правят ими зло, несправедливо. Как быть? «Смириться!» — призывает Семен. «Протестовать!» — не соглашается Василий.
Для протеста Василия нашлись крепкие слова. Они будто взяты из рабочих прокламаций (кое-что пришлось, потом выбросить по цензурным соображениям): «Весь сок выжимают…»; «Напился нашей крови…»; «Учить их надо, кровопийцев…»
«Протестовать!» — утверждает Василий. Но как? Он подает жалобу начальнику дистанции. Начальник бьет его по лицу. Василий едет в Москву, в правление. «За правду надо, брат, стоять», — объясняет он.
Не так ли Гаршин в поисках справедливости апеллировал к верховной власти? Василий получил еще один удар. Так же как Гаршин, он понял: верховная власть неправедна, справедливости искать не у кого.
Что же делать? «Смириться», — сказал бы Семен. «Действовать», — решает Василий. До этого мгновения Василий был прав — он мог обличать, протестовать, не покоряться. Но действовать!.. Это значит самому совершить насилие. И он совершает его — отвертывает рельс. Вот такой же, как этот, который лежит здесь, в траве, под ногами.
Зато кроткий Семен идет на славный подвиг: останавливает поезд смоченным в собственной крови платком. Это уже не самовары под пулями носить — плакать, но идти. Это новая ступень — героизм осознанный. Он думает о людях: «Там, в третьем классе, народу битком набито, дети малые…» Жертвуя собой, кроткий Семен делает больше для общей жизни, чем гордый Василий, который хочет насилием утверждать свою правду. Самоотверженным подвигом бороться за добро — это гаршинское.
Пример самоотверженного героизма — вот что изменяет человеческую душу. Упал Семен, но не упал флаг. Его поднял Василий. Отрекся от себя, переступил через свою гордость, пожертвовал собой — и победил: спас людей. Это уже аггеевское. Можно бы кончить как-то иначе. Но кончилось именно так. Гордому правителю и маленькому железнодорожному рабочему — один путь к спасению.
…Стемнело, стало прохладно. Гаршин пошел к дому.
В углу двора бессильно уткнулся в землю рельс, по которому прежде ходили поезда.
«Как Эзоп, который, идя с горы. плакал, что ему придется взбираться на гору, так и я, несмотря на свое веселое, ровное и спокойное настроение, вижу, впереди крутой подъем, да еще и не один…»
В. Гаршин
Живопись всегда была рядом. Дома висел на стене подаренный Репиным пейзаж. Малороссийские мазанки напоминали далекое детство, Ефимовку. От них веяло покоем. Тревогу рождал репинский «Иван Грозный». В багровом сумраке ковров таились кровь и насилие, и странно было угадывать свои черты в окровавленном царевиче, убитом произволом.
Тревожило репинское полотно «Не ждали» (говорили, что в лице революционера тоже можно найти гаршинские черты). Картина напоминала: неожиданно может открыться дверь — и войдут вчерашние герои.
Тревожили ярошенковские портреты. Художник писал тех, кто в тяжкую ночь нес людям свет и надежду, — Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, Менделеева, Стрепетову.
Живопись была рядом.
Были «четверги» у Репина. Собирались художники и писатели. Бурное веселье сменялось страстными спорами об искусстве. Они обрывались внезапно, как и начинались. На середину мастерской выходил худощавый человек с измученным, вдохновенным лицом деревенской кликуши. Встряхивал пальцами густую солому волос, властно читал стихи. Это был Фофанов — любимец Репина.
Были «субботы» у Ярошенко. Здесь собирался цвет культурного Петербурга. Здесь тоже интересно говорили, читали стихи, жарко спорили. Одно только было незыблемо, вне нападок и обсуждений, — основные принципы Товарищества передвижников. Чистоту их свято оберегал хозяин дома, «совесть художников», как его называли.
Были знаменитые товарищеские обеды передвижников. Так художники отмечали открытие выставок. Среди тех, кого приглашали на эти обеды, только двое не были живописцами — химик Дмитрий Иванович Менделеев и писатель Всеволод Михайлович Гаршин.
Гаршин сидел за столом, заваленным рукописями. И столько печального укора было во взоре его, что людям трудно было взглянуть ему в глаза. Таким написал своего друга Репин.