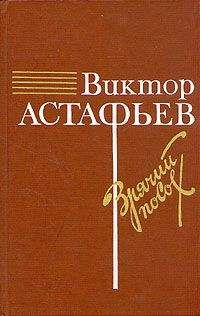Народ заметался по берегу, кто в ботинках, кто в кедах, кто в коротких сапожках, умоляя матроса, надменно стоявшего на носу, и капитана, нахохленно чернеющего в рубке, опершегося на руль и глядящего мимо и выше нас, в какието свои, зовущие дали, — сойти с отмели, пристать чуть ниже, пусть и на ветру — мы готовы стерпеть и холод, и ветер, только чтоб переправиться, или, наконец, к бревнам гавани притиснуться — пусть и скользко, и опасно — мы на все готовы.
Но на носу возле трапа стоял каменным изваянием матрос, и презрительная, пьяненькая улыбка трогала его изветренное, рано постаревшее лицо, и все так же смотрел в заманчивые дали товарищ капитан, который, как только истечет срок стоянки — пять минут, даст какую-то заунывно-привычную лагерную сирену и, сердито фыркнув мотором, отчалит восвояси, и плевать ему на этот гомонящий народишко, что копошится и волнуется на берегу. Навигация кончилась? Кончилась! Когда она кончилась? У всех добрых людей еще в октябре. А сейчас какой месяц? Декабрь! Второе число! И что? Его вина в том, что там, вверху, перегреблась вся эта небесная канцелярия и забыла о заведенном на земле порядке? Зиме быть пора, льду быть пора, а тут вода, и начальство заставляет плавать. Заставляют — пожалуйста! Плевать! Не он убавлял воду, опять же она, эта разгребанная небесная канцелярия, стало быть, пусть она и отвечает за переправу…
Нет, не мог ни неистовый паршивец-капитан, ни его завшивленный забулдыгаматрос убить праздник в моем сердце. Я четырнадцать лет носил под ним повесть, она там шевелилась, что горячее дитя, не давала мне спать, жить: И вот я опростался от нее, и легкость во мне необыкновенная, ибо без вина я пьян от самосотворения, что ли, и я сказал себе: «Хрена, товарищи водники! Мы Гитлера уделали, уж вас-то как-нибудь заломаем!..» На мне были сапоги с длинными голенищами, я их развернул и, подставив спину, сказал мальчику:
— Садись!
Интеллигентно воспитанный мальчик проявил нерешительность, но его начали поощрять, шикать на него, и он робко взобрался на меня, обнял за шею голодными, худыми руками. Я побрел по воде и, свалив мальчика на трап, пошел за стариком. Тот долго кряхтел, бормотал что-то, взбираясь на меня, наконец угнездился и скоро уже на карачках, хватаясь за поперечины трапа, полз вверх.
— Жми, дед, на басы, деревня недалече! — кричал, похохатывая, матрос.
Дед взобрался наконец, встал на ногу катерка, покачал головой и плюнул себе под ноги. «Измельчали старики. Мой бы покойный одноглазый дед сей минут огрел бродягу батогом и в выраженьях не поскупился бы. Эх, времена, времена!.. И нравы!»
Ну в самом деле, где еще, в какой цивилизованной стране можно увидеть такую вот картину: стоит пассажирский катер, мужик на себе таскает пассажиров, тот, кому следует их обслуживать и уважать, издевается над ним и над пассажирами, капитан же, его непосредственный, так сказать, начальник, смотрит вдаль и о чем-то пространственно мечтает, не замечая куражу и даже торжествуя, что на нас отводит поганую душу его подчиненный. Летом эти молодцы забавлялись так: пристанут, возьмут людей, там, с горы, глядишь, трусит старушонка, бренчит бидоном — за керосином собралась, на спине ее громоздкая котомка: с продажей и с гостинцами дорогим деткам — в город. Катер стоит, ждет, но как останется бабке бежать шагов десять до трапа, капитан крутанет сирену, матрос лебедкою поднимет трап, да еще крикнет потрясенной бабке:
— Следующий раз дольше спи!
Уж меня ли удивлять отечественным хамством! Мне ли неизвестно «культурное» наше обслуживание пассажиров на суше и на воде — сам железнодорожником был. Но даже мои земляки — енисейские разбойники — мелко плавают по сравнению с камскими водниками, особенно на местных линиях. Асы! Они словно бы учились в спецшколе, где слова: «вежливость», «уважение», «культура» — выворачиваются, словно бросовая шуба, грязной овчиной наверх.
Последней тащил я даму в канареечной шляпе, и она отчего-то все егозила на мне, повизгивала, грея мой загривок шлепким и горячим местом. Чтобы попугать нас, что ли, капитан крутанул сирену, дал полный газ, заработала было лебедка, поднимая трап, но я бегом достиг трапа и свалил дамочку на него, а сам уцепился за конец; матрос милостиво подождал, когда мы взойдем на палубу. Наверху, у кассы, доставая гривенники, все меня встречали будто героя, благодарили, и я, запыхавшийся, счастливый, шутил, ободрял народ и даже хлопнул крашеную дамочку по мягкому месту, отчего она игриво ойкнула и повела жгучим взглядом, в нос напевая:
— Знать бы, на каком таком веселом мужчине мы ка-атали-ся?..
— А на писателе! — бросил матрос, пробегая мимо кассы. И испортил песню, дурак! Интеллигентный мальчик посинел еще больше, старичонка уставился на меня, как на новоявленную икону чудотворного спасителя, дамочка в канареечной шляпе попятилась и отчего-то сразу зашепелявила, начала просить прощенья:
— Ой, извините! Извините, пожалуйста!..
— Да чего там? Все мы свои, все советские люди! — пробовал я направить людей на прежний, беспечный лад. — Сегодня они нас, завтра мы их… обслужим.
— Нет-нет, что вы! — настаивала дамочка. — Мы слышали, что здесь где-то живет и работает писатель, но вы так просты с виду и в обращении. Уж извините нас… — И вдруг взвилась: — Негодяи! Тут такие люди ездиют, а они издеваются!..
Ушел я вниз, ближе к клацающему мотору, думая о живучести сюжета обожаемого Александром Николаевичем классика. Все тот же примитивный вроде бы и бессменный у нас, на Руси, да у арабов, наверное, только и возможный Тонкий и Толстый. Не раз и не два ругал меня и еще кого-то обитатель Винного Завода, умнейший человек, ныне уже покойный, Борис Никандрович Назаровский, тоже бредивший Чеховым: «А вы что, одно сладкое хотите получать от чтения? Чехов на «сладкое» не годится. Читая его, неловкость испытываешь за окружающую жизнь, за людей, за себя, начинаешь ощипываться, заглядывать в себя, застегнута ли ширинка — проверять. Его глазами жизнь видишь — во какая сила убеждения! И всюду находишь подтверждение тому, что он изобразил «фактологическую сторону жизни», — как сказали бы нынешние велеречивые литературоведы; вроде пьяного мужика всюду натыкаешься на забор, рыло занозишь, нос разобьешь, исцарапаешься об эту «фактологию». И все это тихонько, ненавязчиво поведает грустный, сострадающий тебе, но в то же время и вкрадчивый Антон Павлович — ждешь-ждешь, когда душу сладко знобить начнет, сердце заноет от роковой любви и счастливого конца, а он или разрыдается вместе с тобой, или все в тот же грязный забор мордой. Вон он какой, застенчивый доктор в пенсне, с бородкой провинциального семинариста. Среди наших могучих и беспощадных писателей, быть может, более всех беспощадный. Но уж и страдающий сильнее многих — это совершенно точно».