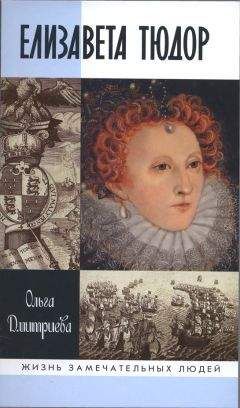Анжелика между тем была неумолима. По ее приказу Рэли перевели из-под домашнего ареста в Тауэр. В заточении он слагал стихи:
Пусть плоть в стенах заточена,
Не чует ран, ей нанесенных злом,
Зато душа, свободы лишена,
Прикована к пленявшему в былом,
Лишь бледный лик унынья виден ей.
Был прежде этот каземат
Любого обиталища милей,
Но время и превратности сулят
Иного стража мне и стол иной.
Свет красоты и огнь любви меня
Живили, но сокрытому стеной
Ни пищи нет, ни света, ни огня.
Отчаянье замкнуло мне врата.
Стенам кричу — в них смерть и пустота[10].
Из Тауэра Рэли написал проникновенное письмо Роберту Сесилу, сыну лорда Берли, рассчитывая, что тот покажет его Елизавете и она смягчится (королева в это время собиралась оставить Лондон и отбыть в летнее путешествие по стране): «Мое сердце не бывало разбито до того дня, когда я узнал, что королева уезжает так далеко, и я, который следовал за нею в течение многих лет с такой любовью и желанием во многих путешествиях, теперь оставлен совсем один в мрачной темнице. Когда она была рядом и я мог хотя бы слышать о ней раз в два или три дня, мои печали не были так тяжелы. Но теперь мое сердце брошено в пучину несчастья. Я лишен возможности видеть ее, гарцующую верхом, как Александр, охотящуюся, как Диана, ступающую, как Венера — и легкий ветерок колышет ее прекрасные волосы у чистых, как у нимфы, щек, — иногда сидящую в тени, как богиня, иногда поющую, как Орфей. Воззрите на печаль этого мира! Один неверный шаг — и я лишен всего этого».
Королеву не разжалобили комплименты — она знала им цену. Хотя порой Елизавета обольщалась на счет истинных чувств своих фаворитов и приступы старческой ревности выставляли ее в нелепом свете, она умела и жестоко проучить тех, кто обманывал ее доверие, но по-прежнему рассчитывал на ее кошелек; она попросту делала их жалкими, лишив самой малости — своего внимания. Королева выпустила Рэли из Тауэра по экстраординарной причине: английские корабли, среди которых были и принадлежавшие ему, захватили в море богатую добычу — португальскую карраку, груженную пряностями, золотом, черным деревом, драгоценными камнями и шелками. И Рэли, и королева были пайщиками в этой экспедиции.
Услыхав о колоссальном «призе», сэр Уолтер немедленно подсчитал, что доля королевы приближается к двадцати тысячам фунтов стерлингов. Он предложил за счет собственного пая увеличить ее доход до ста тысяч, чтобы доказать таким образом свою преданность ее величеству. Его немедленно выпустили, и Рэли отправился в Дартмут лично наблюдать за разделом добычи. Обещанных ста тысяч не получилось, но Елизавету удовлетворили и полученные восемьдесят. Встретив Рэли, моряки радостно приветствовали своего капитана, и, хотя он печально отвечал им, что отпущен лишь ненадолго, «все еще несчастный пленник королевы Англии» чувствовал, что дела идут на поправку. Тауэр ему больше действительно не грозил (по крайней мере в царствование Елизаветы; он снова попадет туда при Якове I и тогда уже лишится головы). Елизавета получила хороший доход, сэр Уолтер — урок, который ему дорого обошелся. Но он возвратился ко двору, и жизнь вернулась в привычное русло.
Элиза и ее рыцари
Квинтэссенцией романтического культа королевы стали рыцарские турниры в ее честь, по традиции проводившиеся 17 ноября — в день восшествия Елизаветы на престол. История приписывает идею их организации славному рыцарю Генри Ли — убежденному протестанту, который в начале ее царствования дал обет каждый год в этот счастливый для Англии день бросать перчатку и ждать на ристалище любого соперника, чтобы сразиться во славу королевы Елизаветы. Он был искусный воин и прекрасный турнирный боец, и государыня с удовольствием пожаловала его званием своего официального защитника на всех турнирах. Рыцарь и поэт Филипп Сидни, неоднократно сражавшийся с Ли, вывел его в своей поэме «Аркадия» под именем Лэлия — «совершенного и непревзойденного в этом искусстве».
На протяжении двух десятилетий турниры оставались обычным придворным развлечением, но затем самый дух их, настроение и содержание совершенно преобразились. Умелая пропаганда спаяла воедино эстетствующий придворный романтизм, неумирающий рыцарский спорт и религиозную идею и создала из этой амальгамы небывалый национальный праздник, превратившийся в народную традицию, просуществовавшую до XVIII века. День 17 ноября стал днем триумфа всех патриотов-протестантов и их горячо любимой Элизы. Поэты называли его «день рождения нашего счастья, / Время цветения, весна мирной Англии». И не беда, что за окном была осень.
Со временем королеве пришла в голову блестящая идея приурочивать к этому дню свое возвращение в Лондон из загородной резиденции. Елизавета и ее свита ждали сигнала о том, что все приготовления к празднику закончены, и торжественно въезжали в столицу, заново переживая и воскрешая в памяти подданных первое триумфальное вступление королевы в Лондон. Турниру в этот день отводилась роль основного публичного зрелища. На него допускались не только придворные зрители, но и широкая публика, с удовольствием платившая несколько пенсов за стоячие места.
Пестрая толпа зевак, состоявшая из горожан всех мастей, молодежи, женщин и молоденьких девушек, желавших полюбоваться на благородную забаву джентльменов, уже с утра стекалась к ристалищу у дворца Уайтхолл — туда, где и поныне находятся казармы личной королевской гвардии. Сама Елизавета со своими придворными дамами располагалась на специальной галерее дворца, вознесенная надо всеми. В 1600 году редкой чести наблюдать турнир с королевской галереи были удостоены послы Московии, которые были этим весьма польщены: остальные иностранные дипломаты занимали места в толпе среди прочей публики. Судьи, которые вели счет ударам и очкам, восседали на особом балконе. Под ним находилась сама площадка с барьером, разделявшим поле надвое. Бои велись только на копьях, которыми надо было поразить противника поверх барьера.
Генри Ли однажды назвал эти состязания «олимпиадой в честь королевы», уподобив их величественным играм героев и атлетов древности. Цвет английского дворянства и аристократии почитал за честь блеснуть перед королевой и другими знатоками своим искусством — графы Лейстер, Сассекс, Оксфорд, Эссекс, Кумберленд были завсегдатаями боев. Однако короткой схватки и быстро поломанных копий им было мало для самовыражения и изъявления любви к их «коронованной богине». Со временем торжественные выезды участников на площадку становились все более театрализованными и представляли собой сложные аллегорические живые картины. Парад — настоящий карнавал, предшествовавший схваткам, — приобрел главенствующую роль. Это было незабываемое и яркое зрелище: каждый участник выезжал на поле боя, облаченный в символические одежды или доспехи; кто верхом, кто на триумфальной колеснице, кто на самодвижущихся повозках. Фантазии не было предела. Какой восторг, должно быть, вызывало у публики появление повозки, запряженной слонами (их, правда, изображали искусно замаскированные лошади), настоящими медведями, львами или даже верблюдами. За колесницами следовали оруженосцы, пажи, свита, одетые в цвета хозяина или ряженные дикарями, «косматыми ирландцами», сказочными и легендарными персонажами. Иногда в представлении участвовали профессиональные актеры и музыканты. Остановившись под балконом королевы, рыцарь обращался к ней с речью, объяснявшей смысл его костюма и явления, а затем слагал к ее ногам свой дар — щит со специально составленной для этого случая эмблемой и девизом.