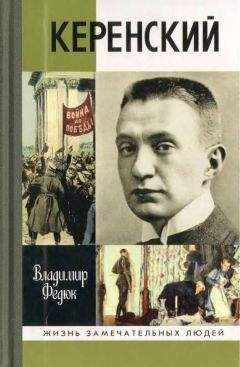Я могу лишь констатировать, что во время приездов в Москву (1992 г. и 1994 г.) он в пятьдесят шесть и пятьдесят восемь лет выглядел отлично — молодо и бодро. У него был здоровый цвет лица, подвижность, гибкость в движениях, он лихо водил машину. Значит, своеобразная диета продлевала его молодость и, вероятно, до тех пор, пока была в силах совершать это. Ведь один из его самых близких друзей, в свое время ведущий кинооператор нашей страны Александр Кольцатый перешагнул девяностолетний юбилей, хотя его жизнь тоже складывалась не гладко. Савелий жаждал работы в кино. Предложения сниматься в рекламе раздражали его, но он не обижался на своего импресарио. В Америке Савелий был своего рода начинающим артистом, к тому же в пятьдесят лет, и терпеливо сносил травмирующее его душу предложение рекламировать колбасы.
Он спорил с режиссером в трактовке роли русского космонавта в фильме «2010».
Режиссер обладал незаурядной фантазией и требовал от Савелия большей шаржированности образа:
— Вздрагивайте, Крамаров, когда кто-нибудь из космонавтов-иностранцев предлагает вам что-нибудь такое, о чем вы не были проинструктированы на родине. Это будет очень смешно! Или у вас это не получается?
Савелий опускал голову, не зная, что ответить.
— Пусть у вас в глазах маячит Золотая Звезда Героя России, которую вы получите после полета на родине. Еще двухкомнатная, максимум трехкомнатная квартира в городке космонавтов. Машина «Жигули» последней модели. И самое главное — 500 долларов, которые вы получите из фонда Сороса! Сумма в четыре раза меньше, чем вы здесь получаете за съемочный день! Это очень рассмешит зрителей! Почему вы молчите?!
— Я играю русского космонавта осторожным, когда заходит разговор о политике. Этого достаточно. Но делать из него идиота я не могу. В России, как и в Америке, космонавты проходят тщательный отбор. В экипаж космического корабля попадают только отважные и образованные люди, тем более в международный экипаж. А нищета… Она существует. И смеяться над ней грешно, У русских людей есть единственное, чем они могут гордиться, хотя и меньше, чем прежде. Это — космонавтика. Я — американец, но родом из России, и даже если бы был пуэрториканцем и знал жизнь России, то сказал бы вам то же самое. Извините меня.
Режиссер задумался, пытливо глядя в глаза Савелия, но через минуту рассмеялся:
— Вы — американец! И какое вам дело до русских, которые почти целый век мечтают и пытаются всюду внедрить свой коммунизм. Искусство не требует скрупулезности материала. Играйте русского космонавта человеком из империи зла. Поверьте мне, он достоин осмеяния. И вы после этой роли получите оглушительный успех! Я не сомневаюсь в этом! Хватит валять дурака, Крамаров!
Теперь задумался Савелий. Может, действительно плюнуть на условности и приличия? Его, по сути дела, изгнали из России. Кто там правит страной? Что за чиновники сидят в Комитете по кинематографии? Но тут он вспомнил слова Ильи Суслова, одного, если не главного организатора «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты». Он, ироничный от природы, шутил зло, но оригинально, когда пришел в Нью-Йорке на выступления Савелия и зашел к нему за кулисы.
— Дуришь эмигрантов, — сквозь очки улыбнулся он. — А я задурил голову одной из коренных американок, да так, что у нас родился ребенок.
Стали вспоминать общих знакомых, и тут Суслов сказал слова, которые поначалу резанули слух и душу Савелия.
— Ты знаешь, Сава, я бросил бы на эту чертову страну атомную бомбу, но товарищей жалко.
Потом Савелий понял, что Илья, отдавший становлению «Литературки» свой удивительный редакторский талант и воспитавший целую плеяду отличных писателей, грустил, потеряв общение с ними, и даже тепло принимал у себя дома в Штатах Арканова, которого не любил за высокомерие, Лиона Измайлова, вечно пишущего со скрытыми соавторами и появившегося на шестнадцатой полосе под псевдонимом «Измайловы», за которым скрывалось три автора из самодеятельности МАИ, зная, что у Лиона в институтском театре была некрасивая история, связанная с финансами.
— Ты не встречал Владина? — спросил Илья Савелия.
— Нет. Не до встреч было. Виделся с людьми только при большой необходимости. Ведь за мною следили. Не хотел бросать на них тень.
— А Володьку Владина жалко, — вздохнул Илья, — хорошо начинал. Но потом я почувствовал, что он больше ничего стоящего не напишет. Он был дико ленив и представил, что «Клуб 12 стульев» — это не полоса, на которой нужно печататься, а клуб, просто клуб, где можно поболтать и выпить принесенную автором бутылку. Я тоже выпивал, ведь автор приносил спиртное не как взятку, а для того, чтобы разделить с нами радость от выхода на полосе своего произведения. Счастливое было время. Я простил авторов, когда они предали меня в Новосибирске. Я их иногда правил. Вынужденно. И для проходимости рассказов. И когда они не умещались на полосе. Ленился вызывать ребят из-за изменения десятка их строчек. Наверное, был не прав. Но в Новосибирске, после гастролей, мой шеф Виктор Веселовский обвинил в этом меня, в самых грубых выражениях, и мои авторы, мои, как я думал, его поддержали. Теперь полоса существует, но не более. И знаешь почему, Сава, у Вити недостаточно хорошо идут дела? У него нет определенной гражданской позиции. Не ясно, с чем он, как сатирик, борется, что отстаивает. Я слушал твой концерт, Сава, и, извини, цельного представления у тебя не получилось. Смешить людей — хорошо, но мысли не хватает. Артисты, приезжающие из Союза сюда на гастроли, рассчитывают на эмигрантов из Бердичева. Но есть и другие, и их немало. Математики, программисты, художники… тебе нечего им сказать. Подумай об этом, Сава. Я давно уехал, давно гражданин Америки, могу по турпутевке махнуть домой, в любое время. Но не хочу быть гостем там, где родился, где приносил радость самым интеллигентным людям. Наверное, уже умер Артур Сергеевич…
— Кто это? — поинтересовался Савелий.
— Тертерян. Член редколлегии «Литературки». Он курировал мой отдел. И часто шел мне навстречу. Подписывал острейшие рассказы. И когда, после выхода газеты, от куратора отдела печати ЦК приходил нагоняй главному редактору, мы с Артуром Сергеевичем внутренне радовались. Значит, попали в десятку. И еще я не уверен, что мои бывшие друзья захотят меня увидеть. Шатько, Горин, Стронгин, Климович, Генин… Это — люди. А в остальных я неуверен. Теперь я для них никто. Ничем помочь не могу. Но когда-нибудь литературоведы раскопают, какое мы с Витей благородное дело сотворили в замшелые времена. Витя был талантливым журналистом. Понимал меня и поддерживал, но слава и водка… Чего вспоминать. Не он один не смог пережить медные трубы. А ты, Сава, подумай, о чем я тебе говорил.