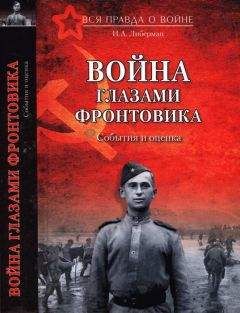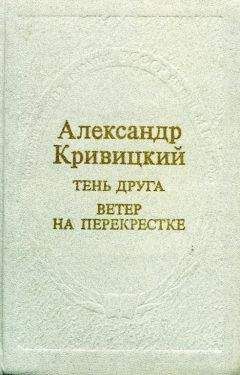Пленный порывается что-то сказать. Лицо его встревожено. Но я жестом велю ему помолчать, спрашиваю солдат, которые привели пленного:
- Где его взяли, как?
- Да не брали, он сам... - отвечает один из солдат. - Мы впереди шли, через деревню. Остановились у колодца, фляжки налить, к нам женщина подбегает: У меня в погребе солдат немецкий, из Польши. Говорит, от немцев отстал, спрятался - вас дожидается, белый платочек наготове держит... Ну, пошли мы, привели...
Едва дождавшись, пока солдат кончит свои пояснения, пленный начинает с жаром, быстро говорить, обращаясь ко мне. Говорит по-польски, но в его речи много и немецких слов. Я почти не понимаю его: польскую речь слышу впервые в жизни. Мне, наверное, легче бы было разговаривать с ним по-немецки. Немецкий-то он, конечно, знает, если в германской армии служил. Но что-то удерживает меня: бежал от немцев к нам, его родной язык близок нашему, а я буду допрашивать по-немецки, как всякого гитлеровца? Нет, нет...
Прошу поляка говорить помедленнее, переспрашиваю, начинаю его понимать. Двадцати четырех лет, шахтер из Катовиц, отец - поляк, но мать - немка, поэтому его, когда стала немецкая власть, зачислили в фольксдойчи и мобилизовали в армию. Так поступают со многими, если в их родословной отыскиваются немецкие корни. Своих солдат Гитлеру не хватает, так он начинает поляков переделывать в немцев. Но поляк остается поляком, он ненавидит тех, кто поработил его родину, и не станет служить им! В армии уже полгода, и как только оказался на фронте, все время ждал удобного случая, чтобы убежать от проклятых германцев к русским, у которых с поляками один враг. И вот случай представился - германцы уходят от русских. Просматриваю содержимое тощего бумажника поляка. Зольдбух - солдатская книжка с фашистским орлом на серой обложке, несколько замусоленных купюр - немецких марок, любительская фотография - сидят рядом седоусый, с выражением достоинства на лице старик в высоком белом воротничке и черном галстуке и маленькая, щупленькая женщина с гладко зачесанными на пробор волосами, в праздничном платье с кружевным воротничком, а между ними, сзади, виднеется девчоночье лицо с напряженно раскрытыми глазами. Поляк, следящий, что я рассматриваю в его бумажнике, поясняет: отец, мать, сестренка.
- А это что? - спрашиваю я, показывая ему вынутый из бумажника кусочек белого шелка, на котором типографским способом оттиснуто изображение богоматери в окружении ангелов, а внизу - какой-то текст на польском языке. Пленный отвечает: это молитва о том, чтобы остаться живым на войне. Не простая - освященная в костеле. Он купил ее там, когда получил повестку о явке на призывной пункт.
- И дорого? - спрашиваю.
Он называет какую-то сумму. Но дело не в сумме. Сколько-нисколько, а зарабатывают и на этом святые отцы.
А мимо проходит, проходит наша полковая колонна.
Спохватываюсь: так можно простоять на обочине и отстать от своих, да и солдатам-конвоирам надо догонять, они уже явно проявляют нетерпение. Но куда девать добровольно сдавшегося?
Возвращаю бумажник его хозяину со всем содержимым, кроме солдатской книжки: эти документы пленных, все без исключения, Миллер велел отправлять ему, в разведотдел штаба дивизии.
Но что все же с этим парнем делать? Отправить в тыл сейчас не с кем, да и куда отправлять - вся дивизия, наверное, в движении. Вести с собой? А если бой?
Поляк по-своему воспринимает мои раздумья. Вдруг суетливо, словно что-то вспомнив, что-то спеша не упустить, порывисто садится на землю, прямо в дорожную пыль, сдергивает сапог, сует в него руку, кажется, шарит под стелькой. И вот вытаскивает какую-то многократно сложенную бумажку. Оставаясь в одном сапоге, поспешно развертывает бумажку, подает ее мне и только после этого обувается. Я сразу узнаю, что это за бумага: одна из наших листовок, призывающая немецких солдат сдаваться. Внизу ее напечатано, что листовка служит пропуском в плен и что добровольно сдавшиеся направляются в лагеря с улучшенными условиями. Такими же листовками были начинены агитснаряды к сорокапятке. Значит, все-таки срабатывают наши листовки?
Этот поляк в моей практике первый, так активно старавшийся перейти на нашу сторону. До этого бывали пленные, но все они оказывались у нас отнюдь не по горячему своему желанию. Впрочем, многие утверждали, что стремились попасть в плен, но можно ли им верить?
- Да! - спохватываюсь я, - у меня же на такой случай приготовлено... - и спешу расстегнуть полевую сумку.
- Товарищ лейтенант! - просят меня солдаты, приведшие поляка. - Может, вы нас отпустите?
- Наши далеко ушли, когда еще догоним? Этот никуда не убежит, раз сам пришел...
- Ладно, идите! - соглашаюсь я. - Что его караулить? Я сам...
Обрадованные солдаты уходят. Батальоны мимо нас уже проследовали, сейчас проходят орудийные упряжки.
- Поздравляю! - слышу я голос Верещагина, он идет рядом со своими орудиями, задерживает шаг, повторяет: - Поздравляю, есть у тебя, наконец, работа, - и показывает на поляка.
- Благодаря тебе!
- Почему - мне?
- А как же? Помнишь, я тебе агитснаряды приносил, умолял выстрелить, а ты еще брать не хотел?
- Ну, помню... Я же все-таки выстрелил. В ту же ночь. Да я тебе говорил!
- Спасибо. А в снарядах лежали такие вот листовочки. Вот он прочитал - и к нам.
- Немец?
- Поляк.
- А, братья славяне! - улыбнулся Верещагин. - Он что, напротив моей батареи сидел?
- Не знаю, не спрашивал. Но это неважно.
- Все одно - запиши его на мой счет! Ну, бывай! - и Верещагин бежит догонять ушедшие вперед своп маленькие пушки.
А я, оставшись вдвоем с моим неожиданным подопечным, достаю из сумки один из давно хранящихся в ней чистых бланков, которые мне еще перед началом боев вручил Миллер. Это - удостоверения для добровольно сдавшихся, дающие право на получение соответствующих льгот. Вписываю в бланк фамилию и имя пленного. Теперь еще полагается поставить печать. А печать всегда в кармане у Ефремова. Как бы увидеть его поскорее? Ефремов на марше имеет обыкновение проезжать на мотоцикле вдоль колонны, в голове ее останавливается, пропускает всю колонну мимо себя, следя, все ли в порядке, а если замечает непорядок, тут же подзывает к себе командира и делает должное внушение. Если идти с колонной вперед, то в каком -нибудь месте Ефремов обязательно встретится. Значит, надо идти.
Мы с поляком быстро шагаем обочиной, понемногу нагоняя ушедших вперед. Он несколько растерян: я обещал ему, что отправлю в тыл, а веду куда-то вперед. Успокаиваю его: все будет в порядке!
А вот, как и следовало ожидать, Ефремов. Стоит рядом с мотоциклом, слегка вскинув голову, и, прищурясь, из-под низко надвинутого козырька фуражки зорко всматривается в проходящую мимо колонну.