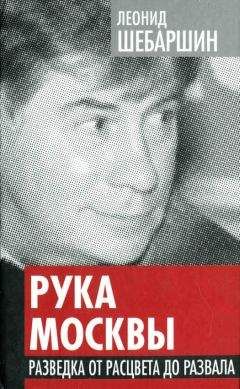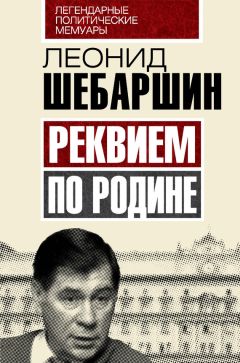Ознакомительная версия.
Три дочери президента (восточная трагедия — три дочери и ни одного сына, судьба уже отметила Наджиба), три милые бойкие девчонки раскланялись, хихикая, с гостем и отправились спать.
Переводчик? Очевидно, был переводчик, который едва ли понимал смесь фарси, урду, английского, на которой с легкостью, даже с каким-то наслаждением изъяснялись афганский президент и Генерал.
Мысль, которую Генерал внушал Наджибу, была совершенно неофициальна и проста: не надейтесь на Москву! Старой Москвы уже нет, новая вас предаст. Умный афганец все иносказания понял, но поверить в то, что Москва способна бросить человека, взращенного ею же, Наджибулла не мог. Ужин с удивительно вкусной домашней едой скомкался, остыл на тарелках сочный афганский шашлык, скучал в стаканах недопитый виски. Наджиб помнил, что Крючков, «генерал Александров», предпочитал всем спиртным напиткам виски «Chivas Regal», и щедро выставил на стол пару пузатых бутылок. Генерал этот напиток во что-то особое не ставил, но, дабы не огорчать радушного хозяина, при виде бутылок изобразил веселое оживление. Тень генерала Александрова долго висела над Кабулом. (Кстати, сам Крючков к спиртному пристрастен не был и представил «Chivas Regal» своим излюбленным напитком лишь потому, что кто-то из подчиненных когда-то убедил его, что именно это виски пьют в высоких американских кругах.)
Наджиб был предупрежден. По правилам игры он должен был бы бежать в Дели, куда заблаговременно отправилась его семья — Фатан и три милые девочки.
Правила игры в нашем беснующемся мире не соблюдаются. Наджиб направлялся к самолету, когда на его пути встал его же соратник, бывший министр иностранных дел демократического правительства Вакиль с группой вооруженных людей. Самолет улетел, Наджиб оказался в заточении в миссии ООН. Вакиль ныне живет в Швейцарии. Ворвавшиеся в Кабул талибы расстреляли Наджиба. Говорят, что стреляли пакистанские офицеры.
* * *
Нам всегда достанет сил перенести чужое несчастье. Гибель Наджиба была чужим несчастьем. Старик к тому времени отошел от всяких государственных дел. О судьбах России беспокоились другие люди, воспитанные на западной социологии и экономической науке, беспредельно честолюбивые и, увы, столь же беспредельно алчные. Время от времени созданная их же руками власть выплевывала кого-то из них на публичный позор: Станкевича, Кобеца, Полторанина, Коха, но публика (или общественное мнение) настолько очерствела, что перестала воспринимать приглашения к зрелищам. «Жизнь дается человеку только один раз, и надо прожить ее...» Одному, бесчисленному множеству, — выжить, другому, ничтожному меньшинству, — прожить и обеспечить беспечальное существование своему потомству.
Старик принадлежал бесчисленному множеству. Он выживал.
А меж тем наступил очередной октябрь. Можно еще было бы поехать в милый сердцу подмосковный лес, затопить печку, послушать ее успокоительный вой, вскопать поутру грядку и, самое главное, дождаться появления Ксю-Ши, погладить ее влажную рыжую шерстку и посмотреть в умные честные глаза, не знающие лжи и притворства.
Беспощадный дождь обрушился на Москву, осенний, но не по-осеннему обильный, нудный. Он стучал по подоконникам, заливал балконное стекло, ныл, что исхода нет: «...умри, начнется все сначала...»
И повторится все, как встарь? Ничто не повторится, ничто!
Жена Старика, с которой он прожил сорок один год в добром согласии и даже любви, перенесла удар и оказалась в госпитале полупарализованной.
Уже наладившееся было монотонное существование — прямая, как стрела, стежка-дорожка, поросшая поблекшей травой, тропинка, в конце которой дожидался Старика покой, — вдруг сделало резкий зигзаг и пошло в сторону, в сторону, в сторону...
Тени отступили, отогнанные житейской суетой, мелочными горестными заботами сегодняшнего дня. Только во сне, но редко, до огорчения редко, посещала Старика милая рыжая собачка: в Москве ей не было места, хотя он надеялся, что это до поры до времени.
Жизнь сделала зигзаг, и привычные спокойные мысли пошли вразнобой. Все чаще вспоминалась Старику фраза: «Коемуждо по делам его». Кажется, встречается она в Писании, скорее всего, так оно и есть, но врезалась она в память с первых страниц булгаковского «Театрального романа», книги, которую Старик ставил непомерно высоко. Оспаривать его оценку не стоило — он был упрям, довольно начитан и не одобрял мнений, противоречащих его собственному.
Каждому воздастся по его делам! Странно, что эта простейшая посылка, основа справедливости, аксиома царства Божия на земле и в небесах, смутно тревожила Старика. Казалось бы, что ему тревожиться? В Бога ты не веришь, земная жизнь единственная и последняя, распадешься в конце концов на атомы, а уж атомы-то по отдельности за свою бывшую совокупность и ее грехи не отвечают... Что же тут беспокоиться?
Старик действительно почти всю свою сознательную (?) жизнь был атеистом и временами даже воинствующим безбожником. (Не к месту вспомнилось чувство стыда, которое испытал Старик десятки лет назад. Только что советский космонавт сделал несколько витков вокруг Земли, и бойкая профсоюзная активистка укорила зарубежного гостя, седобородого муллу: «Вот вы в Бога верите, а наш Гагарин на небе побывал и никакого Бога не увидел». Надо было если не плюнуть и убежать от того срама, то хотя бы не переводить благонамеренную невежественную чушь.) Так вот, с годами, и особенно на склоне лет, стал Старик понимать, что все обстоит не так-то просто с Богом и его делами. В конце концов он должен был вновь признать, что разум его слишком слаб, чтобы постичь идею Бога, но достаточно силен, чтобы усомниться в искренности или разумности тех, кто эту идею, по их утверждению, постиг.
С другой стороны, гораздо достойнее быть, пусть игрушкой, в руках какой-то высшей силы, чем случайно образовавшимся сгустком белкового вещества. («Жизнь есть способ существования белковых тел», — написал однажды глупость умный, в общем-то, человек, и глупость была превращена в догму.)
Генерала тревожила несоразмерность воздаяний каждому по делам его. Он опасался стать жертвой справедливости, определяемой недоступным ему мерилом. Что же это за жестокая и бесчувственная сила, которая наказывает людей страданиями их дорогих и близких?
* * *
Повод для тягучих, вековечных размышлений о справедливости и несправедливости, добре и зле, вечности и суетности был. Рассуждать на эти темы можно было только про себя — настолько они приелись всем своей обыденностью и неразрешимостью. Пожалуй, только сильно подвыпивший русский человек мог бы рискнуть затеять диспут по этим поводам с неизбежным выводом: «Судьба — индейка, жизнь — копейка...» или же, распираемый эрудицией, воскликнуть: «Нет правды на земле!».
Ознакомительная версия.