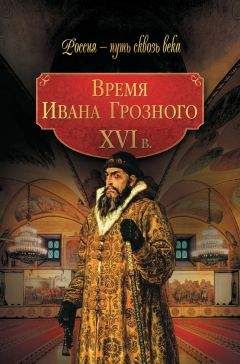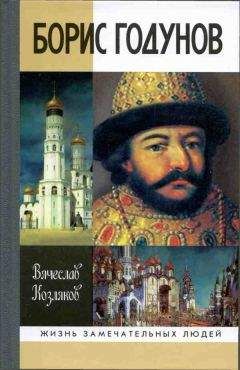К этому, как и к тому, что самодержавный царь станет поучать своих бояр, подданные еще могли приспособиться. Но они так и не поняли, почему ключевые дипломатические дела, связанные с Речью Посполитой, решаются без их участия, при помощи личной канцелярии Дмитрия Ивановича, состоявшей из польских секретарей. Почему награждаются огромными суммами польско-литовская шляхта и солдаты? Почему они позволяют себе эпатировать рядовых обывателей своими надетыми «не по чину» дорогими одеждами, спускают деньги в кабаках и в игре «зернью»? Почему царь Дмитрий окружил себя иноземной охраной, жалуя «немецких» драбантов больше, чем своих стрельцов?
Все разговоры и недовольство уравновешивались до времени «правильным» поведением самого царя, хотя и вводившего новшества, но не трогавшего самую чувствительную сферу, связанную с православием. Кроме того, в Московском государстве была поставлена близкая цель крымского похода, и это позволяло легче воспринимать разные новшества вроде «царь-пушек» и гигантского «гуляй-города» на реке Москве, оправдывать широкую раздачу жалованья из казны.
Приезд многочисленной свиты Марины Мнишек нарушил спокойное течение жизни. Сам вход в столицу вооруженных гусар и солдат подавал новый повод для недовольства. Шведский дворянин Петр Петрей был одним из немногих, кто заметил это, критически смотря на сближение московского царя с подданными короля Речи Посполитой. В «Истории о великом княжестве московском» он писал: «В этот день москвитяне были очень пасмурны и печальны, что нажили себе такое множество иноземных гостей, дивились на всадников в латах и в оружии, спрашивали иностранцев, долго служивших и проживавших у них, нет ли обычая у них на родине приезжать на свадьбу вооруженными; предавались странным мыслям, особливо когда увидали, что поляки достали из своих телег с оружием несколько сот привезенных с собою пистолетов и ружей»109.
На боярские дворы и рядовых москвичей легла тяжесть постойной повинности и обеспечения приехавших всем необходимым. Несмотря на попытки, которые буквально с самой границы делал воевода Юрий Мнишек, принять какой-то устав или свод правил поведения в чужой стране, тщетно было урезонивать рядовых людей его свиты. Они по своей славянской натуре предвкушали праздник и веселье и в буйстве ничем не отличались от русских, кроме высокомерного отношения к тем, к кому они приехали в гости. Еще на подъезде к Москве, в Можайске, в каком-то споре был убит некий родственник самого могущественного боярина князя Василия Мосальского. Но настоящая неприязнь возникла у жителей Москвы, когда они столкнулись с бесцеремонным вторжением польско-литовской шляхты и жолнеров в свою повседневную жизнь на улицах, рынках и в церкви. «В поляках не было доброты, но они столь же злы, как русские», — скажет про это время один из иностранцев110.
Пока шли свадебные торжества, в столице было совсем неспокойно. До царя Дмитрия Ивановича дошло дело об изнасиловании одним из поляков боярской дочери, в Кремле ловили и казнили лазутчиков. Разрядные книги обобщили все главные преступления: «А литва и поляки в Московском государстве учали насилство делать: у торговых людей жен и дочерей имать силно, и по ночем ходить с саблями и людей побивать, и у храмов вере крестьянской и образом поругатца»111. Воевода Юрий Мнишек и его свита быстро поняли, чем это может им грозить. Воевода пытался предупредить царя Дмитрия о «явных признаках возмущения» и принес ему целую сотню челобитных, но тот безудержно веселился и не хотел признавать перед гостями и приехавшими послами очевидных признаков нараставшего недовольства своим правлением112. Станислав Немоевский рассказал о разговоре, состоявшемся между царем и его тестем буквально накануне московского восстания. Царь Дмитрий был убежден, что «здесь нет ни одного такого, который имел бы что сказать бы против нас; а если бы мы что заметили, то в нашей власти их всех в один день лишить жизни»113.
Подобное бахвальство и гордыня быстро стали определяющими чертами личности вчерашнего скромного чернеца, вынужденного долго подавлять свои недюжинные таланты. То понимание самодержавия, которое усвоил царь Дмитрий Иванович, его более старшие и опытные современники испытывали на своей судьбе еще при Иване Грозном и Борисе Годунове. И они не хотели повторения, ожидая по крайней мере благодарности за оказанную ими поддержку царю Дмитрию при завоевании им престола. Новый царь сначала по образцу многих правителей пытался проявить себя либерально. По отзывам некоторых иностранцев, «он был очень любезен, давая свободный доступ самым незначительным лицам». Ничем хорошим это не кончилось, царь стал «примечать и понимать проделки русских» и отгородился от своих подданных иноземной стражей114. «Солнышко», радушно встреченное москвичами, быстро стало светить только для самого себя и редко баловать подданных «милостями», как это делал, по контрасту с Грозным царем, Борис Годунов. Молодой человек, сомнения в истинности происхождения которого так и не исчезли, восседает на троне и поучает седовласых думцев во всех делах — картина малосимпатичная. Но ее хотя бы можно объяснить расплатой за предательство по отношению к Годуновым. Но когда царь Дмитрий стал демонстрировать предпочтение своим польским приятелям перед боярами, это они восприняли более чем серьезно. Потом в подтверждение своей версии переворота распространили «расспросные речи» секретарей Станислава и Яна Бучинских, передававших слова своего патрона: «Убити де велел есми бояр, которые здеся владеют, 20 человек. И как де тех побью, и во всем будет моя воля»115.
История с подготовкой царем Дмитрием убийства всех бояр выглядела правдоподобно только в глазах тех, кто торопился оправдать свое участие в расправе над Лжедмитрием. Слишком уж очевидно в ней стремление подогнать факты и оправдать свои действия. Как это обычно бывает в таких случаях, правда и вымысел здесь искусно перемешаны в пропорциях, хорошо известных заговорщикам. Действительно, в Московском государстве многое еще зависело от бояр, и они быстро сумели продемонстрировать это. Иноземным гостям, приехавшим на свадьбу Лжедмитрия, ничего не оставалось, как принять крах того царя, на которого они возлагали столько надежд. Случись в истории царя Дмитрия и Марины Мнишек все по-другому, его сторонники из Речи Посполитой продолжали бы славить основателя нового союза. Но скорая смерть мнимого сына «тирана Ивана» позволила авторам дипломатических донесений и мемуарных записок не сдерживать свои перья.
Больше всего царь Дмитрий раздражал своих несостоявшихся союзников претензией на императорский титул. При приеме польско-литовских послов дело доходило до совсем нешуточных нарушений протокола, связанных с личным вмешательством царя в ход переговоров. Он неоднократно оскорблял послов Николая Олесницкого и Александра Госевского и вообще поставил под угрозу отношения с королем Сигизмундом III. Все это еще больше подогревало подозрения в том, что московский царь не прочь теперь сесть еще и на королевский престол Речи Посполитой116.