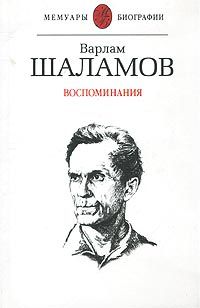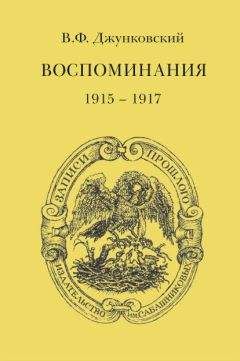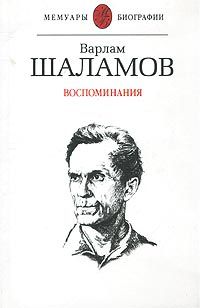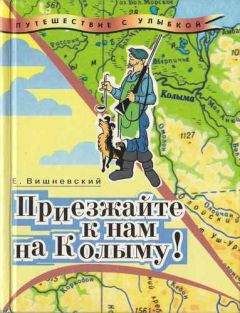— О Бурлюке. Я отказался видеться с Бурлюком. Лиля Юрьевна Брик подготовляла эту встречу. Сослался на экзему. Да и в самом деле экзема тогда разыгралась. Что у меня общего с Бурлюком: нарисуют женщину с одной рукой и объявляют свое произведение гениальным. Я давно, слава богу, избавился от этого бреда. Так мы и не повидались. Когда Маяковский читал «Человек», Белый слушал его зачарованно, слушал, как ребенок. Я рассказывал об этом вечере в «Охранной грамоте». Белый — гений. Но не универсален, не всегда. Наставленный на что-нибудь одно, он прозорлив, гениален. Наставленный на другое — ничтожен. Хороша, отлична его проза. Дань этой прозе отдал и я в «Детстве Люверс». Из стихов лучший сборник Белого «Пепел»…
Белый — методист. Если бы от его дыхания, от его голоса лопнуло какое-нибудь стекло в зале, он выбил бы остальные стекла кулаком.
После самоубийства Маяковского я был у него на квартире, потрясенный. В соседней комнате — Бухарин. Бухарин говорит пошлые вещи. Я думал — мне тяжело, но я чего-то не понимаю, в чем-то ошибаюсь, не верю чувству cвоему. И только на процессах 37–38 годов я увидал, что и им тяжело, что время мучает всех.
Белый мог чувствовать, воспринимать искусство, как никто. Коры самодовольства (положения, славы) не было у него. Он обнаженными нервами воспринимал все талантливое. Белый был потрясен «Человеком» Маяковского. Тогда Бальмонт читал какие-то сонеты. Я был молод, сказал что-то резкое Бальмонту. Бурлюк отвел меня в сторону и шепнул:
— Не горячитесь. Вы тоже талантливы, вы еще будете с нами работать.
— С кем я вижусь? Иванов, Нейгаузы, Ливанов, Симонов… Чем я занимаюсь сейчас? Застой творческий. Вероятно, еще напишу несколько стихотворений. Читаю французские, немецкие книги — для практики в языке. Если поеду за границу (меня зовут в Венецию), хочу свободно владеть языком. Хочу напечатать роман — вот главная моя задача, цель жизни. Скоро выходит мой однотомник. Банников просил написать меня предисловие — напишу поправки к «Охранной грамоте».
В этом однотомнике, который был рассыпан в 1957 году и вновь собран в 1961-м, подверглись жестокой ухудшающей авторской правке ранние стихи Бориса Леонидовича.
Банников в свое время безуспешно протестовал против исправлений, ратовал за привычные, известные всему миру варианты, но Б. Л. настоял на своем.
В тот вечер Борис Леонидович выглядел превосходно, крепким физически и духовно.
«Я дышу легко. Я не чувствую необходимости лгать, фальшивить. Я не подписал письма против французских писателей (Сартра и других), и, кажется, наши именно хотели, чтоб я не подписал его».
Зато Сартр в своей статье о «Холодной войне» написал, что Пастернак — отшельник, живущий вне времени и пространства. Но о Сартре после.
Волков-Ланнит[69] спросил о мнении Пастернака о Шкловском. Б. Л. ответил, что ценит и помнит интересные книги Шкловского, но все его открытия («приемы» и т. п.) — вовсе чуждое, чужое творческим принципам и практике Пастернака:
— Сейчас не важно, кто талантлив, кто неталантлив в нашем искусстве. Важно столкнуть искусство с мертвой точки?..
Б. Л. далеко не вне политики. Он — в центре ее. Он постоянно определяет «пеленги» и свое положение в пространстве и времени.
Б. П. — В стихах первый вариант — всегда самый лучший. Самый честный, вернее. Когда-то я смотрел на себя, как на инструмент, которым владеет кто-то, чтоб стих лился свободно, как бы чужой рукой писались стихи. В юности, в молодости я отдавался силе этого потока.
В. Т. — Мне кажется, даже у больших поэтов в небольшом стихотворении можно угадать, какая строфа была написана первой.
— По всей вероятности.
Позднее, читая воспоминания Фокина,[70] я встретился с той же мыслью — первый танец всегда самый искренний. («Первый исполнитель и является наиболее подходящим».)
Это — та же трактовка того же вопроса. Пастернак писал стихи пятьдесят лет. Всякий, кто сколько-нибудь внимательно перечитывал стихи поэта, сборники, изданные им, знает, что канонических текстов его стихов не существует. При подготовке каждого издания (а их было немало за пятьдесят лет работы, за семьдесят лет жизни), Пастернак всегда делал исправления строк, меняя слова, снимая строфы, меняя их порядок. Эти исправления далеко не всегда улучшали стихотворение.
Даже в самых первых переизданиях тексты отличаются от первоначальных; особенно много правки было внесено при подготовке ленинградских изданий 1932 и 1933 годов.
Не всегда можно установить — по чьей воле сняты строфы, изменены слова — самого поэта или цензуры.
Окончание стихотворения «Весной бездонной»[71] в журнальном тексте и тексте «Второго рождения» было:
О том ведь и веков рассказ.
Как, с красотой не справясь,
Пошли топтать, не осмотрев
Ее живую завязь.
Но в жизни красота как раз
И крылась жизнь красавиц,
Но их дурманил лоботряс
И развивал мерзавец.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.
В ленинградском издании 1932 года «Высокая болезнь» кончается известными, широко известными строками:
Я думал о происхождении
Века связуюших тягот,
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
В том же издании 1933 года этих строк нет. Особенно много исправлений в однотомнике, который собирался в 1956 году (издан в 1961). Здесь редактор Банников безуспешно боролся с поэтом, защищая старые, известные, канонические варианты.
Замечательные строки «Зеркала» из «Сестры моей жизни» испорчены. Было:
И вот в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Теперь:
И вот в усыпительной этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Мотивом всех этих переделок была отнюдь не требовательность. Просто Пастернаку казалось, что строй образов того, молодого времени чужд его последним поэтическим идеям и поэтому подлежит изменению, правке. Пастернак не видел и не хотел видеть, что стих его живет, что операции он проделывает не нал мертвым стихом, а над живым, что жизнь этого стиха дорога множеству читателей. Пастернак не видел, что стихи его канонических текстов близки к совершенству и что каждая операция по улучшению, упрощению лишь разрывает словесную ткань, разрушает постройку.
С этим он считаться не хотел.