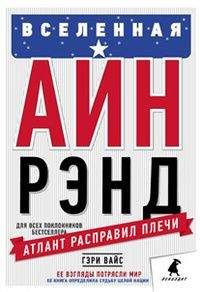Меры, принятые в отношении регрессивного налога, поддержанные Гринспеном, Уолл-стрит и корпоративной системой оплаты труда, до предела расширили пропасть между бедными и богатыми, чего не снилось даже баронам-разбойникам. Между 1979 и 2004 годами люди среднего достатка наблюдали, как их доход после вычета налогов вырос на одну пятую, тогда как доход одного процента населения, с учетом инфляции, подскочил на 176 %.[197] В 1980 году генеральные директора получали в 42 раза больше, чем среднестатистический рабочий. В 1990 году этот показатель увеличился до 147. К 2010 году генеральные директора получали уже в 343 раза больше американских рабочих со средней заработной платой.[198]
Почти с самого момента его назначения на пост председателя Гринспен ратовал за отмену закона Гласса — Стигала, принятого в эпоху Великой депрессии, который запрещал банкам одновременно заниматься кредитными операциями и инвестировать в компании. Под его руководством Федеральная резервная система урезывала действие закона, пока в 1999 году он не был отменен. Это позволило коммерческим банкам гарантировать размещение ипотечных ценных бумаг — судьбоносный шаг на пути к финансовому кризису 2008 года.
В 2000 году, когда член Совета управляющих ФРС Эдвард Грэмлих привлек внимание Гринспена к нарастающей проблеме хищнического кредитования (ипотечные компании предлагали субстандартные кредиты, занимаясь рискованным кредитованием бедняков, которые не могли выплачивать по ним), Гринспен воспротивился предложению отправить в ипотечные отделения национальных банков проверяющих.[199] Защищать народ от эксплуатации со стороны всесильных банков совершенно противоречило тем установкам, какие он выдвинул в «Посягательстве на неприкосновенное». Это было просто невозможно.
Между прочим, что такое хищническое кредитование? С точки зрения объективистов оно имеет столь же важные последствия, сколь и продажа пекарем булки. Ипотечные компании предлагали субстандартные кредиты на несуразно сложных, неравноправных условиях, продавали их беднякам, которые попросту не понимали, что происходит. Согласно доктрине объективистов и пропаганде Гринспена, для банков это было в их рациональных личных интересах. Поэтому инвестиционные банки оформляли ипотечные кредиты, применяя обескураживающе запутанные формулировки, присваивая наивысший уровень кредитоспособности без малейших на то оснований. Присвоение наивысшего уровня надежности ипотечным ценным бумагам было в рациональных личных интересах кредитно-рейтинговых агентств, потому что таким образом они стимулировали рост своих доходов.
И все это никак не регулировалось: ни субстандартные кредиты, ни деятельность кредитно-рейтинговых агентств, ни кредитные деривативы. Гринспен, верный своей давно усопшей наставнице, стоял насмерть за деривативы, сводя на нет все попытки их регуляции. В 2003 году он заявил Банковскому комитету Сената США, что регулировать их «было бы ошибкой».[200] Еще через год он сказал на банковском съезде: «Не только отдельные финансовые учреждения стали менее уязвимыми к основным факторам риска, но и вся финансовая система в целом сделалась более стойкой».[201]
Когда Конгресс попытался закрыть лазейку с деривативами, спровоцировавшими скандал с компанией «Enron», Гринспен этому воспротивился. И, как обычно, его оппозиция одержала верх. «Широкое разглашение данных о ценах по внебиржевым сделкам на условиях заказчика никак не поспособствует процессу определения цены в целом», — заявил он вместе с еще несколькими членами кабинета Буша в письме к Конгрессу от 2002 года.[202] Несмотря на злоупотребления корпорации «Enron», Гринспен и остальные «не верили, что дела, затронувшего государственные интересы, достаточно для оправдания государственного вмешательства». Деривативы, ставшие побочным продуктом бума жилищного строительства, такие как обеспеченные залогом долговые обязательства, теперь регулировались только одним, самым лучшим регулирующим органом — «алчностью бизнесмена».
Мемуары Гринспена «Эпоха потрясений» были опубликованы в 2007 году, за год до того, как его репутация была уничтожена финансовым кризисом. В коротком отступлении о Рэнд Гринспен постарался отмежеваться от своей наставницы, подчеркивая, что был не согласен с нею по вопросу о подоходном налоге, который она вовсе хотела отменить. Но почти тут же, вроде бы противореча самому себе, он объявляет себя наравне с нею главным поборником объективизма: «Я всегда находил широкую философию конкуренции свободного рынка весьма привлекательной, нахожу ее таковой и сегодня».
И все. Ни единой попытки опровергнуть сказанное им в трех эссе из «Капитализма», хотя рэндианская антология все еще переиздавалась и стремительно раскупалась. Книга «Эпоха потрясений» дала своему автору чудесную возможность отречься от программы радикального капитализма, выдвинутой в ранних эссе. Он мог бы сделать это в мемуарах точно так же, как мог бы отмежеваться от этих эссе еще несколькими годами раньше, попросив изъять их из антологии или сделав публичное заявление о том, что эссе больше не отражают его взглядов. Но Гринспен этого не сделал. Вероятно, потому, что все еще верил в каждое слово из этих эссе.
Также он мог бы использовать свои мемуары, чтобы извиниться перед Бранденами: ведь в 1968 году, во время Разрыва, он подписал заявление, направленное против них. Но теперь-то ему было известно, что все сказанное тогда оказалось сплошной клеветой. Барбара Бранден упомянула, что встречалась с Гринспеном в 1980-х годах, когда собирала материалы для своей книги, и рассказала ему, как все было на самом деле. «Он был просто потрясен, — сообщила она мне. — Он признался, что до него доходили слухи,[203] только он никогда им не верил». Он извинялся, сказала Барбара. «Он был очень мил». Для Барбары Бранден этого было достаточно. Когда я беседовал с нею, она не испытывала никаких горестных чувств по этому поводу. Однако если иметь в виду отношение Гринспена к давно усопшей наставнице, то весьма примечательно, что он не нашел нескольких фраз в своей книге, чтобы оправдаться и выразить сожаление по поводу своей подписи под тем заявлением.
Что касается эволюции его взглядов — точнее, отсутствия таковой, — то Барбара Бранден наблюдала Гринспена на вершине власти и говорит, что «знала уже давно: философия Рэнд оказывала на него влияние на протяжении многих лет». И сегодня, «без сомнений, это влияние в большой мере сохранилось».
Кто-то может сказать, что выводы сделаны слишком поспешно, даже может заподозрить нас в предвзятости. В конце концов, как же быть со знаменитым заявлением Гринспена в Конгрессе, которое он сделал в 2008 году, признаваясь, что в его мировоззрении имеются «изъяны»?