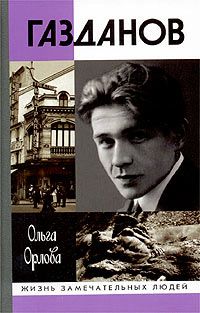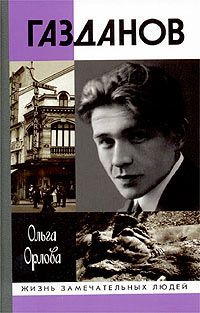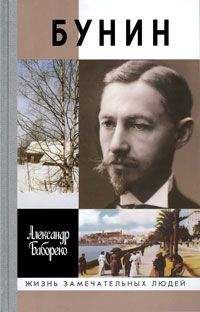Война застала Газдановых на юге. Четырнадцатого июня 1940 года в восемь часов утра Гайто крепко спал — накануне он писал всю ночь. Фаина проснулась рано, собираясь купить горячий хлеб к завтраку. Посмотрев в окно на спокойное и ласковое море, она включила радио: оттуда голос главы французского правительства Петена сообщал о том, что вскоре с немцами будет подписан мирный договор и Францию поделят на две зоны: северную и центральную — оккупированную Франкрейх, и южную — не оккупированную Виши.
Фаина вспомнила, как в прошлом сентябре был такой же теплый день, когда по радио доносился голос премьер-министра Даладье с сообщением о том, что Франция вступает в войну. Его слова неслись из распахнутых окон, люди на улице застывали в напряженном внимании. Вскоре начали выть сирены. В сумятице горожане быстро стали обзаводиться противогазами, которые раздавались бесплатно. Правда, иностранцам они не полагались, но при желании вполне приличный экземпляр можно было недорого купить на толкучке. Тогда Гайто отговорил Фаину от этой покупки, посчитав ее бессмысленной тратой: гибель от отравления газом представлялась ему куда менее вероятной, чем гибель при других обстоятельствах, перечислять которые не хотелось, чтобы не пугать понапрасну жену.
И вот теперь, меньше года спустя, по радио орет Петен. Люди слушают его без любопытства, скорее враждебно. Никто даже не понял, откуда выплыл этот странный неврастеник и почему он теперь возглавляет Францию и всех тех, кто не сумел за предшествующие десять месяцев полюбить «Великую Германию» и немецкий порядок. «А противогазы-то действительно не понадобятся… — с горькой усмешкой подумала Фаина. — Вряд ли немцы будут отравлять воздух на улицах, по которым сами маршируют с таким усердием. Они придумают, как всегда, что-то упорядоченное…»
Вернувшись осенью домой, Гайто и Фаина не узнали прежний Париж. По приказу Петена он был объявлен открытым городом, и в столице воцарились паника и хаос; дороги заполонили беженцы, которые потянулись на юг. Даже их тихая и узкая улочка Брансьон, где с трудом разъезжались две машины и на тротуаре которой с трудом расходились два человека, — даже она гудела как улей от сутолоки и суеты. Эти дни парижане быстро окрестили июньским «великим исходом».
Как и для большинства русских эмигрантов, для Гайто с Фаиной наступили тяжелые дни. О скудных литературных доходах пришлось забыть: большинство русских издательств, газет и журналов еще год назад закрылись на неопределенный срок. Основной финансовый источник Газдановых — заработок шофера — тоже стал резко иссякать. Желающих проехаться на такси с каждым днем становилось все меньше и меньше. Незачем было торопиться в Оперу, в кабаре. Неоткуда было взяться туристам, в прежние времена курсирующим по Парижу круглыми сутками. Отели опустели. Светская жизнь замирала. Состоятельные люди старались покинуть столицу. Если повезет, можно было подхватить пассажиров до вокзала, с которого уходили поезда в южном направлении. Этот маршрут Гайто уже знал с закрытыми глазами. Однако и такие отъезжающие попадались на стоянках все реже и реже.
Жизнь города, а вместе с ней и жизнь горожан переставала носить хоть сколько-нибудь предсказуемый характер. Казалось, уже никто не в состоянии контролировать те разрушительные процессы, которые спровоцировал хваленый немецкий порядок, немедленно превратившийся в хаос в воздухе французской свободы. Все происходило в точном соответствии с намерениями фон Абеца, немецкого посла во Франции, который в первые дни своего появления декларировал: «С немецкой стороны следует сделать все, чтобы добиться внутреннего разлада и ослабления Франции. Недопустимо усиление патриотических чувств в этой стране». Результат не замедлил сказаться: к лету 1941 года территория Франции была захвачена, республика ликвидирована, правительство Петена переехало в Виши и откровенно поддерживало фашистскую политику немцев. Оценивая настроения и события тех дней, Михаил Осоргин писал:
«Франция представляет из себя сейчас любопытную картину кажущихся противоречий. С одной стороны, ее объединяет общность перенесенного ею внешнего поражения — удар по национальному самолюбию, полная неопределенность будущего, которое строится вне ее участия, жестокие экономические испытания, вплоть до голода, связанность инициативы. С другой — некоторая тень самостоятельности, какой другие покоренные страны лишены совершенно, слабая возможность договора с победителем и отстаивание своих прав. Разделенная на две зоны, занятую и свободную, она в разной степени испытывает натиск чужой воли».
В эмигрантской среде, и без того полной противоречий, разлад ощущался еще сильнее, чем у коренных французов. Разрушился с трудом налаженный эмигрантский быт, но и это было еще полбеды, к этому русским во Франции было не привыкать. Во второй раз русские почувствовали верность булгаковской мысли: «Разруха не в клозетах, а в головах!» Среди русской общественности началось разделение на тех, кто видел в фашистах освободителей от ненавистного большевизма, и на тех, кто воспринимал их как страшную машину, уничтожающую все ценное и живое. Не избежали раскола и русские писатели. Большинство из них были антифашистски настроены и стремились уехать подальше от оккупантов.
Так сразу после появления немцев покинул Париж Иван Бунин. Он поселился в Грассе и до конца войны отвергал все предложения о публикациях в профашистских изданиях. Он отказывался не только публично выразить хотя бы малейшую поддержку тем, кто хотел сотрудничать с немцами, но и предоставить для печати пару нейтральных рассказов. С ним же переехали на юг Леонид Зуров и Николай Рощин. В те времена в доме Бунина находили пристанище немало евреев, бежавших из оккупированной зоны, хотя это были дни, когда, по его собственным словам, «жили впроголодь и обедали через день».
Рядом с Буниным в Ницце поселился Марк Алданов. Вскоре он покинул Францию и обосновался в США, где и прожил до конца своих дней.
Весной 1940-го там же, на юге, в маленьком Шабри поселились Осоргины. Будучи уже тяжело больным, Михаил Осоргин переправлял в Америку для печати статьи, разоблачавшие оккупантов. По воспоминаниям Марка Алданова корреспонденции Осоргина в «Новом русском слове» эмигранты, прибывшие из Европы, читали с ужасом. «Ведь его отправят в Дахау!» — говорили все, кто не понаслышке знал оккупационные порядки. Статьи Осоргина легко могли попасться на глаза любому германскому цензору, ждать милосердия от которого было бы наивно.
В самом начале войны Гайто потерял связь с «шуменской троицей»: через некоторое время он узнал, что Володя Сосинский, ушедший на фронт, попал в немецкий плен, а его семья вместе с семьей Андреева и Резникова поселилась на атлантическом побережье Франции на острове Олерон.