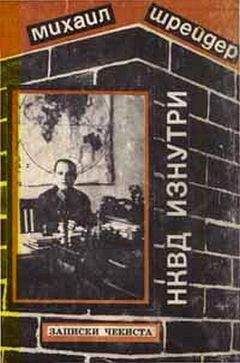Я категорически отрицал предъявленные мне новые обвинения, приводя, на мой взгляд, неопровержимые доказательства: в приказах ГУРКМ СССР с 1934 по 1938 годы неоднократно отмечалась положительная работа ивановской милиции; Ивановская область ставилась в этих приказах в пример другим; за четыре года моей работы в Ивановской областной милиции я был награжден третьим боевым оружием, знаком «Почетный милиционер» к 20-летию милиции. Указом Президиума Верховного Совета СССР я был награжден орденом Красной Звезды.
Но следователь упорно, как заученный урок, твердил свое, причем говорил общими фразами.
Следует заметить, что в то время я был так счастлив, что с меня сняли обвинения по 58-й статье (измена родине, шпионаж, террор и т. п.), что не особенно старался защищаться от обвинений по статье 193/17-А (халатность, злоупотребление властью и т. п.). Да если бы я и хотел защищаться, то этой возможности у меня не было. Мои неоднократные письма на имя прокурора с требованием вызвать меня для допроса оставались безответными.
Все это время (то есть с того момента, как в июле 1939 года с меня были сняты обвинения по статье 58-й, и до апреля 1940 года) в Иванове, видима, изыскивали провокационный материал об упущениях или нарушениях законов в моей служебной деятельности. Вероятно, нелегко было найти такой материал, если на это понадобилось 10 месяцев. Потому я после предъявления мне обвинения по статье 193/17-А еще четыре или пять месяцев просидел в одиночке. Только в апреле меня наконец вызвали к новому следователю, который предъявил те же обвинения: развал агентурной работы, насаждение в Иванове бандитизма и «вредительский пропуск» через тройку уголовников, подлежащих нарсуду.
Наконец, в конце апреля очередной следователь объявил мне об окончании следствия и о признании меня виновным по статье 193/17-А, то есть злоупотребление властью и преступная халатность (опять-таки не расшифровывая, в чем именно состояла моя вина).
— Правда, материал для твоего обвинения слабоват, — любезно успокоил меня следователь. — Возможно, судить тебя не будут и вернут дело. Но все равно ты, троцкистская сволочь, от нас не уйдешь. Пропустим тебя через особое совещание.
Из этого я понял, что в отношении меня есть указания ни при каких условиях меня на свободу не выпускать.
После этого, последнего допроса я еще около трех месяцев просидел в одиночке, 2 июля меня уведомили о назначении на следующий день суда. Обвинительного заключения мне прочитать не дали и ничего о существе обвинений не сказали.
В ночь перед судом меня измучили всевозможные страшные мысли. Несмотря на то, что меня обвиняли уже не в шпионаже и терроре, а только в якобы допущенном «злоупотреблении властью», невольно думалось, что если где-то в верхах решено меня ни в коем случае не выпускать, то и по этой статье могут приговорить к расстрелу.
Я попросил вахтера вызвать ко мне врача. Пришедшей фельдшерице я объяснил, что меня завтра будут судить, что я никак не могу заснуть и прошу дать мне снотворное. К моему удивлению, она без всяких возражений дала мне таблетку.
Но, тем не менее, вся эта ночь казалась мне каким-то кошмаром.
В «черном вороне» меня доставили в Черкасский переулок, где находился военный трибунал войск НКВД Московского округа.
Когда меня выводили из машины, с двух сторон остановились прохожие, и я за долгие месяцы тюремного заключения впервые увидел москвичей и московское небо. День был чудесный. Мне почему-то казалось, что моя жена должна обязательно быть в этой толпе: я знал, что она по Черкасскому переулку ходила на работу в Наркомфин. Но ни одного знакомого лица в толпе не было, а меня подталкивали в спину к подъезду со словами: «Быстрее, быстрее!»
До начала заседания суда меня усадили в специальную маленькую комнату для заключенных, напоминающую дежурку для ночного сторожа. Из окна этой комнаты я видел, как в доме напротив, где было какое-то учреждение, работали и ходили люди. Я заметил сидящую за столом машинистку, которой кто-то диктовал, и оба они смеялись. Я думал о том, что происходило со мной, а жизнь шла своим чередом, и работающие в доме напротив люди так же, как и прохожие, шедшие мимо подъезда суда, ничего не ведали, не знали и, наверное, не хотели знать…
Наконец меня повели наверх, в зал судебного заседания. Председательствовал на суде Ждан, известный мне по двум выездным сессиям Верховного суда в Иванове, где при его участии были присуждены к расстрелу председатель Ивановского облисполкома Агеев и вместе с ним целая группа других партийных и советских руководящих работников, обвиненных в правотроцкизме, терроре, шпионаже и прочих несусветных грехах.
Кроме председателя Ждана, секретаря Склокина, двух заседателей (один в форме милиции, другой в форме войск НКВД), конвоя и меня, в зале никого не было. В суде совершалась внесудебная закрытая расправа — не было ни прокуроров, ни адвокатов.
Огласили обвинительный акт, в котором я обвинялся в злоупотреблении властью, в развале работы милиции Ивановской области, в частности, в развале агентурной работы, результатом чего якобы было усиление преступности в области. Далее в акте говорилось, что «враг народа» Шрейдер «в порядке вредительства», являясь председателем внесудебной тройки, проводил через тройку большое количество уголовников, подлежащих нарсуду.
Главный свидетель обвинения оперуполномоченный Е. Соловьев, занимавшийся в период моей работы в Иванове подготовкой дел на так называемую милицейскую тройку, на суд не явился.
(Много лет спустя я узнал от бывшего моего подчиненного по ивановской милиции Корытова, что Соловьев впоследствии был выгнан из милиции, спился и умер от белой горячки.)
Двое других «свидетелей» — работников госбезопасности Иванова — на мой вопрос, знают ли они, в чем меня обвиняют, ответили, что я являюсь «членом правотроцкистской организации, шпионом и террористом».
Председательствующий Ждан вынужден был объяснить им, что это обвинение мне не предъявляется и что меня теперь обвиняют только в служебном преступлении.
Тогда я с разрешения председательствующего задал свидетелям второй вопрос: откуда они знают, что меня якобы обвиняют в столь тяжком преступлении?
«Свидетели», не моргнув глазом, ответили, что накануне отъезда из Иванова их вызвал начальник УНКВД Блинов и проинструктировал, что говорить на суде.
Я обратился к председателю трибунала с просьбой зафиксировать ответы свидетелей в протоколе судебного заседания и заявил, что двое работников УНКВД являются лжесвидетелями, поскольку сами ничего не знают по существу дела, а выполняют инструкцию начальника УНКВД Блинова.