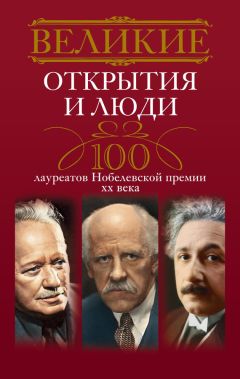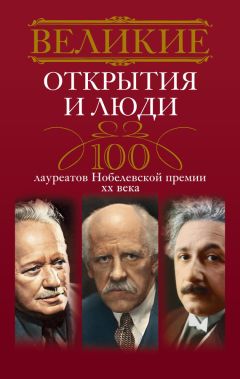Сильный творческий дух Бунина сумел противостоять и этому материальному одряхлению, и всем житейским невзгодам и трудностям. Нобелевская премия ‹…› была щедро роздана неимущим и прожита. Бунины не умели «обращаться с деньгами» и «придерживать» их. Безденежье очень угнетало И. А. ‹…›
Жить в Грассе становилось все хуже. Ни продовольствия, ни денег. Кто мог поддержать писательское гнездо? Каждый думал о том, как бы прокормиться!.. «Горцы» давно уехали. Жили вчетвером: Бунины, Зуров и Бахрах [32, 319–321].
Александр Васильевич Бахрах:
Ежевечерне (в остальное время дня это никогда нам не удавалось) он сходил в столовую, где стоял большой радиоприемник, и силился поймать Лондон или Швейцарию и особенно стал интересоваться ходом военных действий с момента гитлеровского наступления на Россию. В своей комнате он развесил огромные карты Советского Союза и внимательно следил за штабными сводками, негодуя, когда какую-нибудь местность, упомянутую в этих сводках, он не находил на своих картах. Только когда нацистские армии проникли слишком далеко вглубь советской территории, перестал он делать отметки на картах, «чтобы не огорчаться». Помню, как в дни Тегеранского совещания он говорил: «Нет, вы подумайте, до чего дошло — Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай Бог, чего в дороге не случилось!» [8, 181–182]
Иван Алексеевич Бунин:
23.7.1944. Взят Псков. Освобождена уже вся Россия! Совершено истинно гигантское дело! [55, 374]
Александр Васильевич Бахрах:
Мне посчастливилось наблюдать за ним в период писания «Темных аллей». Большинство рассказов, составивших этот последний прижизненный том его художественной прозы, сочинял он в военные годы, в период нашего сидения на вилле «Жаннет» в Грассе. ‹…› Он писал свою книгу запоем, словно все время торопился, боялся не поспеть, боялся, что военные события воспрепятствуют ее завершению. Бывали недели, когда он с утра буквально до позднего вечера запирался (неизменно на ключ!) в своей большой комнате, во время оно уютной и очень «барской», но приведенной им в какое-то неописуемое, неправдоподобное, хаотическое состояние. Из четырех огромных итальянских окон этой комнаты вдалеке виднелось море, а в особо ясные дни — и очертания итальянских берегов (дом стоял на крутой горе, у той дороги, по которой бежавший с Эльбы Наполеон шел отвоевывать Францию), — на переднем плане причудливо расстилался Грасс, окруженный альпийскими отрогами с их жасминовыми и розовыми склонами. Чтобы отдохнуть от долгого писания, Бунин нередко подходил к этим окнам, смотрел на лазурное море ‹…› на прилегающий к вилле, расположенный террасами сад, в котором работал старый садовник-провансалец — главный его враг в это время! — а то стоял у окна в нетерпеливом ожидании весьма неаккуратного почтальона, приносившего газеты. ‹…›
Из своего обиталища он спускался только к скудным трапезам ‹…› возвещавшимся гонгом с некоторой неуместной торжественностью. Эти общие трапезы неизменно сопровождались проклятиями по адресу «фюрера» ‹…› Петена, домочадцев, не сумевших потрафить его гастрономическим потребностям, и легкими «ссорами» при дележе макарон, хотя и осточертевших, но все же всем нам казавшимися изысканнейшим из блюд. Выругавшись по поводу скудости пищи и вспомнив, каких рябчиков и с каким соусом подавали в «Праге», он забирал свою бутылку красного вина и снова взбирался к себе наверх, снова запирался и писал уже до самого вечера. Только в редкие дни прерывал он свою работу, ради поездок в Ниццу или в Канны, учащавшиеся во время летнего сезона, когда можно было искупаться в море [8, 174–176].
Иван Алексеевич Бунин:
С 8 на 9.V.44. Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать неск. строк «Чистого Понед‹ельника›». Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейш. движения воздуха; полнолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев… Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе! [55, 372]
Марк Вишняк. Из письма М. Алданову. 25 января 1946 г.:
Бунин, конечно, в отдельных местах хорош, но мне несносен; я имел как раз неудачную мысль прочесть его «Аллеи» и пришел, конечно, в полный раж: изнасилование, растление, опять насилование, и все в 43, 44 и 45 гг. — самый подходящий сезон… [58, 133]
Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883–1964), писатель, публицист, издатель. Из письма М. Алданову. 14 февраля 1946 г.:
Растлевающий дух, разящий от гордого олимпийца из дворян… Почему никто из почитателей Бунина не решился написать ему, что последний ряд его рассказов («Темные аллеи». — Сост.) — кокетство дурного тона и документ, изобличающий всю извращенность его гордости и благородства? [58, 133]
Марк Алданов. Из письма Г. Д. Гребенщикову. 20 февраля 1946 г.:
Ваш отзыв о Бунине меня огорчил. Я и сам не сочувствую его «уклону». Кажется, ему не сочувствует никто. ‹…› Но Вы согласитесь с тем, что порнографии в прямом смысле в его рассказах нет. Впрочем, что такое прямой смысл? Я понимаю под порнографией следующее: писатель нарочно, чтобы завоевать себе успех, играет на эротических инстинктах читателей. Этого у Бунина нет. Напротив, он сам себе вредит и у русского читателя, и особенно у иностранного. Попытки устроить американское издание «Темных аллей» не удались: издатели именно на это ссылались. Между тем его рассказ «Натали» (был в «Новом журнале»), принадлежащий к тому же тому, но не заключавший в себе грубых сцен, был не только издан по-английски, но включен в Фишеровскую антологию европейской литературы двадцатого века. Бунин всего этого не может не понимать (да я ему и писал об этом). Но он органически не способен писать не о том, что его волнует. Что же делать, если его в особенности волнует физическая любовь — именно теперь, в 75 лет. Вы скажете: это-то и гадко. Я не знаю, гадко ли, не думаю (вспомните толстовского «Дьявола»), но повторяю: что ж делать? Ни Вам, ни мне еще 75 нет. Бунин по-своему прощается с жизнью [58, 133–134].
Иван Алексеевич Бунин. Из письма Ф. А. Степуну. 10 марта 1951 г.:
Жаль, что Вы написали в «Возрождении» что «в „Темных аллеях“ есть некий избыток рассматривания женских прельстительностей» ‹…› Какой там избыток! Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов «рассматривают» всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет (вплоть до всякой даже моды женской): последите-ка, как жадно это делается даже в каждом трамвае, особенно когда женщина ставит ножку на подножку трамвая! И есть ли это только развратность, а не нечто в тысячу раз иное, почти страшное? [19, 77]