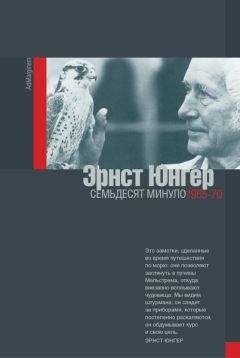Английские удары
4 июня 1918 года я опять столкнулся с полком, разместившимся на отдых в теперь уже задвинутой за линию фронта деревне Врокур. Новый командир, майор фон Люттихау, передал мне командование моей седьмой ротой.
Когда я приблизился к квартирам, люди выбежали мне навстречу, выхватили вещи и встретили меня с триумфом. Я, казалось, вернулся в свой семейный круг.
Мы проживали в краале, состоящем из бараков рифленого железа, посреди густо заросших лугов, в зелени которых мерцали бесчисленные желтые цветочки. Пустынная равнина, окрещенная нами «меринландией», была заполнена табунами пасущихся лошадей. Выходящий за порог своей хижины сразу ощущал сосущее чувство пустоты, какое, должно быть, временами охватывает ковбоя, бедуина и прочих обитателей пустыни. Вечерами мы совершали долгие прогулки в окрестности бараков в поисках гнезд с яйцами рябчиков или спрятанной в траве военной техники. Однажды в полдень я верхом проехался по ложбине под Врокуром, еще два месяца назад бывшей местом ожесточенной борьбы. Ее окраины были усеяны могилами, на которых мне не раз попадались знакомые имена.
Вскоре полк получил приказ занять переднюю линию позиции, защищающей деревню Пюизье-о-Мон. Ночью мы ехали на грузовых автомобилях до Ашье-ле-Гран. Приходилось часто останавливаться, так как яркие шары светящих парашютных бомб с ночных бомбардировщиков выхватывали из тьмы белую ленту дороги. Повсюду разнообразный свист летящих тяжелых снарядов перекрывался громовыми раскатами разрывов. Прожектора неуверенно ощупывали темное небо в поисках ночных стервятников. Шрапнель распускалась нежной игрушкой, а трассирующие пули мчались одна за другой длинными звеньями, подобно стае огненных волков.
Стойкий трупный запах висел над захваченной землей, то более то менее овладевая сознанием, как привет из некой жуткой страны.
– Запах наступления, – услышал я рядом с собой голос старого фронтовика, когда мы какое-то время ехали, как мне казалось, по аллее братских могил.
От Ашье-ле-Грана мы шли железнодорожной насыпью, ведущей на Бапом, а затем через поле к позиции. Огонь был в самом разгаре. Когда мы на мгновение остановились передохнуть, рядом разорвались два снаряда средней тяжести. Память о кошмарной ночи 19 марта заставила нас уносить ноги. Сразу за передней линией стояла смененная, шумно галдящая рота; мимо нее случай провел нас как раз в тот момент, когда дюжины шрапнельных разрывов оборвали этот гам. С отчаянной бранью мои люди повалились в ближайшую траншею. Троим, истекая кровью, пришлось возвращаться в санитарный блиндаж.
В 3 часа, совершенно обессилевший, я очутился в своем блиндаже, мучительная теснота которого обещала мне в ближайшем будущем череду малопривлекательных дней.
Красноватое пламя свечи колыхалось в плотном облаке дыма. Я перебрался через чьи-то ноги, пробудив волшебным словом «Смена!» жизнь в этой дыре. Из похожей на жерло печи норы донеслась куча проклятий, затем приблизилось небритое лицо, изъеденные ярь-медянкой плечи, ветхий мундир, два глиняных обрубка, в которых я распознал сапоги. Мы сели за шаткий стол и уладили все дела с передачей, причем каждый старался надуть другого на дюжину-другую пайков или несколько ракетниц. Наконец мой предшественник выдрался через узкую горловину штольни наружу, напророчив мне напоследок, что мерзкая дыра не протянет и трех дней. И я остался новым командиром участка А.
Позиция, которую я осмотрел на следующий день, радовала мало. Прямо у блиндажа я встретил двух окровавленных дежурных, раненных на подступах зарядом шрапнели. Через несколько шагов к ним добавился стрелок Аренс, задетый рикошетом.
Перед нами была деревня Букуа, за спиной – Пюизье-о-Мон. Рота занимала неэшелонированную позицию на узкой передней линии и справа была отделена от 76-го пехотного полка большой незанятой пустошью. Левое крыло полкового участка смыкалось с изрубленным леском, рощей 125. Согласно приказу штолен не было. Ютились по двое в крошечных землянках, подпертых так называемой жестью «Зигфрид». Это была согнутая в дугу рифленая жесть, приблизительно метр высотой, ее листами мы подпирали наши узкие, похожие на лаз убежища.
Поскольку мой блиндаж находился совсем на другом участке, первым делом я высмотрел себе новое обиталище. Похожее на хижину строение в заброшенном окопе показалось мне вполне сносным, после того как я привел в обороноспособное состояние весь натащенный туда мною смертоносный инвентарь. Там со своим денщиком я вел жизнь отшельника на природе, лишь изредка прерываемую приходами связных и ординарцев, которые сами несли в эту уединенную пещеру обстоятельные фронтовые газеты. Так, между взрывами двух снарядов, среди прочих полезных известий, можно было прочесть новость, что у коменданта местечка X. сбежал черный пятнистый терьер, отзывающийся на имя Циппи, или, не без ощущения мрачного юмора, углубиться в чтение иска по алиментам горничной Макебен к ефрейтору Майеру. Всякие карикатуры и срочные сообщения обеспечивали необходимое разнообразие.
Вернемся, однако, к моему убежищу, которому я присвоил прекрасное имя «Дом-мечта». Меня заботил только козырек прикрытия, лишь относительно защищавший от снарядов, то есть до тех пор, пока не было прямого попадания. Единственным утешением была мысль о том, что мои люди не в лучшем положении. Каждый раз в полдень денщик стелил мне одеяло в гигантской воронке, к которой мы прорыли ход, чтобы принимать там солнечные ванны. Иногда мое лежание на солнце нарушалось близким разрывом снаряда или жужжанием осколков, летящих сверху от обстрелов воздушного противника.
Ночные обстрелы обрушивались на нас короткими буйными летними грозами. Во время них я лежал на устланных свежей травой нарах со своеобразным, неизвестно откуда взявшимся ощущением безопасности и вслушивался в ближние разрывы, от которых по сотрясавшимся стенам струился песок, или выходил наружу и глядел с поста на грустный ночной ландшафт, представлявший собой невыразимо странный контраст с плясками огня, ареной которым он служил.
В эти минуты в меня закрадывалось чувство, до сих пор мне чуждое: глубокая перемена в ощущении войны, происходящая от затянувшейся на краю бездны жизни. Сменялись времена года, приходила зима и снова лето, а бои все шли. Все устали и притерпелись к лику войны, но именно эта привычка заставляла видеть все происходящее в совершенно другом, тусклом свете. Никого больше не ослепляла мощь ее проявлений. Чувствовалось, что смысл, с которым в нее вступали, иссяк и не удовлетворяет больше, – борьба же требовала все новых суровых жертв. Война подбрасывала все более сложные загадки. Странное это было время.