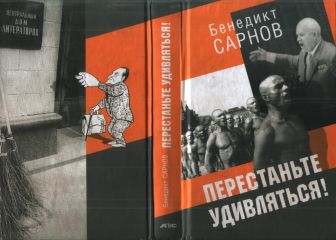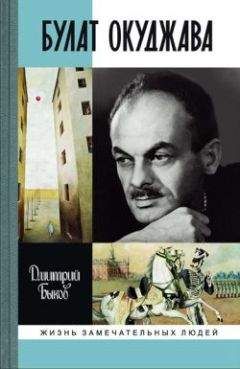Но кинуть такое обвинение Булату!.. Булату, которого он знал – ближе некуда!..
Вот почему мне и в голову не пришло, что надо бы все-таки встретиться со старым товарищем, коли уж представился шанс еще раз увидеться с ним в этой жизни.
Каково же было мое изумление, когда на следующий день – уже ближе к вечеру, весь день он где-то пропадал – Булат безмятежно, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал мне:
– Я сегодня был у Володьки.
– Какого Володьки? – даже не сразу сообразил я.
– Максимова.
– Позволь!.. Но ведь ты… Но ведь он тебя…
– А-а, – так же безмятежно отреагировал Булат. – Ты про это?.. Ну, знаешь… Я его простил…
Булат, как я уже не раз говорил, был человек закрытый. И я так и не понял, насколько искренним было это его прощение. Кто его знает, может быть, он просто делает вид, что оскорбление, нанесенное ему бывшим другом, не так уж глубоко его задело…
Но я бы так не мог.
Ни за что! Ни при какой погоде!
«Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу», – однажды сказал о себе Виссарион Григорьевич Белинский.
Значит, я не в такой уж плохой компании.
Хотя теперь, кажется, эта компания считается плохой…
Вспомнилось: зашел я как-то с сыном
в большой книжный магазин на Кузнецком. На стенах там красовались портреты всех корифеев отечественной словесности: Пушкин… Гоголь… Тургенев… Гончаров… Толстой… Чехов… Горький…
Сыну было тогда лет четырнадцать, и в то время он меньше всего интересовался классической русской литературой. Тем не менее, оглядев висящие на стенах портреты классиков, он узнал почти всех.
Неузнанным остался только один – Виссарион Григорьевич Белинский.
– А это кто? – толкнул он меня, показывая на портрет великого критика.
Я сказал:
– Белинский.
– А-а, – кивнул он. – Сумасшедший Виссарион…
Я не мог удержаться от смеха, услыхав, как трансформировалось в голове бедного моего нерадивого школьника прозвище «неистового Виссариона».
В те времена, когда моему сыну было четырнадцать, авторитет Белинского был еще сравнительно высок. Хотя уже приходилось слышать, что в знаменитом его споре с Гоголем прав был не он, а Гоголь.
Ну а теперь уже почти общим местом стало убеждение, что Белинский был чуть ли не злым гением великой русской литературы.
Не входя в существо этого спора (здесь и сейчас – не время и не место), могу сказать только одно: по части «жидовской» нетерпимости я и сегодня остаюсь с «сумасшедшим Виссарионом».
Когда в том – уже московском – телефонном разговоре
Володя Максимов с обидой напомнил мне, что, оказавшись в Париже, я не пожелал с ним встретиться, я, услышав этот его упрек, все-таки испытал чувство некоторой неловкости.
Подумал, что, может быть, и в самом деле я поступил нехорошо, не по-человечески. Вот ведь Булат, у которого было гораздо больше оснований для того, чтобы не встречаться с Володей, все-таки переломил себя, нашел в себе силы забыть обиду. А может быть, мудро решил, что Володька все-таки психопат, «бешеный огурец», который кусает кого ни попадя – и чужих, и своих, – и нам, хорошо знающим его старым друзьям, нельзя не принимать это во внимание.
Но эти мелкие уколы совести беспокоили меня недолго. Прошло совсем немного времени, и я окончательно утвердился в мнении, что правильно поступил в той ситуации именно я, а не Булат. Не надо было нам с ним встречаться. Ни мне, ни Булату.
Осенью 93-го Марья Синявская,
в очередной раз приехавшая из Парижа в Москву, собрала на квартире вдовы Юлика Даниэля Иры Уваровой (приезжая в Москву, она всегда там останавливалась) самых близких друзей. Велено было явиться и мне.
У меня очень плохая память на даты, но я помню, что принес и подарил Марье в тот вечер (естественно, не только ей, но отсутствующему Андрею тоже) свою книгу «Пришествие капитана Лебядкина», которая в то время была совсем свежей новинкой. Подписана в печать она была 14 июля 93 года, вышла, стало быть, не раньше августа, скорее всего, в сентябре. Так что встреча эта была совсем незадолго, может быть, всего за нескольких дней до кровавых событий 3–4 октября 93 года, закончившихся тем, что впоследствии стали называть расстрелом парламента.
Это был «военный совет». Предстояло обсудить и решить вопрос чрезвычайной важности.
Володя Максимов в то время, уже не стесняя себя никакой политкорректностью, объявил Синявским самую настоящую войну. С лютой злобой и яростью он обрушил на них новый поток обвинений в сотрудничестве с КГБ.
У него в руках оказался документ, будто бы с несомненностью подтверждающий, что факт сотрудничества действительно имел место.
Собственно, документ этот оказался сперва в руках Владимира Буковского. А уж тот передал его Максимову. Максимов же, ликуя, передал его Э. Кузнецову (известному диссиденту-«самолетчику», в то время редактору иерусалимской газеты «Вести»). И он тотчас же его в этой газете опубликовал.
Это была подписанная Ю.В. Андроповым и датированная 26 февраля 1973 года за номером 409-А докладная записка, в которой председатель КГБ СССР ходатайствовал перед ЦК КПСС о разрешении Синявскому вместе с семьей выехать на три года во Францию.
Смысл этой записки можно было понять и так, что Андрей Донатович Синявский был отправлен на Запад если не по заданию КГБ, то что-то вроде этого.
Андропов докладывал в ЦК КПСС о том, что КГБ СССР проводится работа «по оказанию положительного влияния на досрочно освобожденного из мест лишения свободы» Синявского. Принятыми мерами, сообщал он, удалось скомпрометировать имя Синявского в глазах творческой интеллигенции, в том числе с помощью слухов о его связях с органами КГБ СССР, а через его жену «удалось в выгодном нам плане воздействовать на позиции отбывших наказание Даниэля и Гинзбурга, в результате чего они не предпринимают попыток активно участвовать в так называемом “демократическом движении”, уклоняются “от контактов с группой Якира”».
Марья тут же объявила этот документ фальшивкой.
Нет, она не утверждала, что никакой такой андроповской докладной записки не было. Записка была. Но опубликовали ее «Вести» с купюрами, то есть в подтасованном, фальсифицированном виде. А у нее в руках имеется полный текст этого документа, в котором все выглядит совершенно иначе.
Из текста, опубликованного Кузнецовым с подачи Максимова, выпал такой – самый важный, по ее мнению, – абзац:
...
Вместе с тем известно, что Синявский, в целом следуя нашим рекомендациям, по существу остается на прежних идеалистических позициях, не принимая марксистско-ленинские принципы в вопросах литературы и искусства, вследствие чего его новые произведения не могут быть изданы в Советском Союзе. Различные буржуазные издательства стремятся использовать это обстоятельство, предлагая свои услуги для публикации работ Синявского, что вновь может привести к созданию нездоровой атмосферы вокруг его имени.