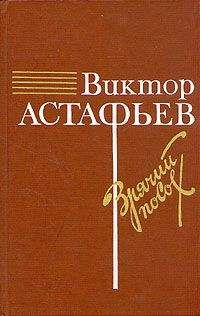Ночью я уехал домой, забился в Быковку — перемогать горе. Мне хотелось быть одному, работа не шла на ум, и я до изнеможения шлялся по лесу, долбил лед на наконец-то замерзшей Быковке, дергал харюзков.
Дней через двадцать жена привезла мне с почтой письмо от Натальи Федоровны.
Дорогой Виктор Петрович! Милая моя Машенька!
Это всего только я… Пишу первое письмо в своей новой, постылой жизни. Вот уж и появились силы печатать.
Сидим с Аннетой в Малеевке уже десятый день. Сегодня двадцатый день, как мы осиротели. Приходил Баруздин, выпил водки, сказал доброе слово. В сущности, с его умного слова, как-то очень по-русски сказанного несколько дней тому назад, что-то и началось. Он сказал: «Чем умирать и выбирать способ умереть, надо издать Сашины произведения, а уж потом, глядишь, жизнь и подскажет, как с нею расправиться». Я еще нашла в Сашиной рецензии на сборник посмертных стихов Светлова такие строчки: «Он (Светлов) спасал их (своих героев) от худшего, чем от смерти, от забвения…»
Из всех моих силенок как-то, может, и сумею я хоть что-то сделать в этом спасении, хоть на какое-то более продолжительное время. Посоветовал мне Баруздин попросить издать Сашин сборник «Советский писатель», потом «Гослит», может, дадут двухтомник. Кроме того, посоветовал обратиться в издательство «Советская Россия» — предложить им его внутренние рецензии с чьей-то умной статьей о Сашиной манере помогать авторам, с воспоминаниями о нем и с его перепиской.
Вот такой смысл жизни вырисовался из мрака, клубящегося вокруг моего унылого существования. Чую, предстоят и борьба, и обиды, и новое отношение писателей — то жена Макарова, то его вдова! Во всяком случае, вот уже неделю работаю с утра до вечера над его рукописями, работаю до того, что над ними и засыпаю, а просыпаюсь — не даю себе минуты представления об ужасе моего одиночества, скорее берусь за них снова. Его рука, его слово, его ирония, его вставочка, им зачеркнуто, им вписано… Хожу по этим строкам, как слепой, и не вижу того, кто это делал, и не могу до него дотронуться…
Только что приехал Эдель. У него 4 декабря умерла жена от инфаркта, сидит в окружении молодых женщин, рассказывает. Господи! Какой счастливый! Дай ему бог забвенья. А мне забвенья не дал бог, да и не возьму, хоть пришлось бы мне ползать по земле и выть от боли воспоминаний.
Вот какая у меня к вам просьба: не хочу я ставить на Сашину могилку монументы, граненые и шлифованные. А хочется положить мне дикий камень, хоть без того креста из клена, о котором говорит Лермонтов. Только чтобы камень был диким, поросшим мхом, такой — из леса или с речки, где он ловил хариусов. Где Вы с Сашей ловили хариусов. Сумеете ли Вы найти такой камень и есть ли возможность переправить его в Москву? Чтобы только он не был голышом, гладким, чтобы он не был круглым, а был бы, как Вам сказать, похожим на Сашу, — таким немного угластым и устремленным ввысь.
Все вспоминаю, как Вы были у нас и как бедственны были те дни. Все вспоминаю, сказали Вы мне или мне это пригрезилось: «Во все трудные минуты ты мне скажи. Я тебе друг. Я за тебя в ответе…» Только вот перед кем в ответе? Перед Богом? А где он, и спросит ли он у Вас ответа за меня? И почему Вы должны были это сказать? А может, это Машенька побранила Вас потом, что Вы не сказали? А на самом деле Вы не сказали, потому что ни я, ни Саша не были Вам так близки, чтобы Вы за его жену взяли на себя ответственность, то есть за меня.
Вот не сплю ночью, смотрю на Сашину карточку — он такой молоденький, улыбчивый стоит возле больничного окна в садике и все спрашивает — сказали Вы мне это или только вот так, до смерти хотелось, чтоб сказали.
Будем в Малеевке до второго. Потом попробуем помотаться по всем вдовьим делам в Москве, а с 15-го попытаюсь опять сюда уехать, здесь теплая комната, как берлога: заберешься — и тишина, и работать можно и поплакать на воле.
Милая Машенька, дай Вам бог миновать всякого горя. Люблю я Вас, Саша Виктора и Вас любил.
Ну, прощайте и простите меня, если что не так.
Ваша Наташа Макарова.Если вы в силах написать что-то из воспоминаний о Саше и, может быть, с выдержками из писем, то и Чаковский, и «Лит. Россия» и, вероятно, журнал «Знамя» и «Дружба народов» это дадут.
Прошу Вас.
Может быть, это и будет зачином будущей книжки воспоминаний и разговоров о работе, об отношениях к людям и, главное, к литературе, которую он так преданно любил.
Ваша Наташа.Потом было еще несколько писем человека, тяжко переживающего горе, оглушенного одиночеством.
Дорогой Виктор Петрович!
Вернулись ли Вы из-за границы?
«Литературная газета» очень ждет Ваших воспоминаний о Саше. Решили ли Вы их писать? Туда или в журнал? Напишите, пожалуйста.
Я все время живу в Малеевке.
Одной легче.
Аннеточка скоро собирается рожать.
Пока очень тяжело, что до сих пор никак не может решиться вопрос о переносе Саши на Новодевичье кладбище — Союз писателей хлопочет, да где-то у начальства застопорило.
Ничего не могу сделать и очень страдаю.
Пишу о Саше.
Болею стенокардией и вообще — все то же. Поэтому не хочу обременять Вас своим присутствием, хотя одинока и очень нуждаюсь в добром слове.
Напишите мне.
Целую Машеньку.
Всего доброго!
Ваша Наташа Макарова.Дорогой Виктор Петрович!
Что же Вы забыли про меня?
Трудно мне, тяжко, невыносимо.
Что я сделала за это время?
Была несколько раз в Калязине. Будет там комната в библиотеке — музей памяти Сашиной. Сделали барельеф, готова часть экспозиций. Перехоронила Сашу, лежит он теперь в центре Ваганьковского кладбища, старого, между Суриковым, Есениным, Тимирязевым, Пукиревым, Архиповым. Под старыми кленами. Сделана временная мраморная доска и много цветов.
Словно новые похороны. Сделала все одна. Добивалась два месяца и только вмешательство ЦК партии и мои слезы помогли, наконец.
Что дальше?
Надо доделать экспозицию. Надо делать сборник для «Гослита». Надо писать воспоминания о Саше. Надо готовить сборник воспоминаний. Надо выступать на радий, надо делать мою книжку — у меня договор на ноябрь. А я? Все валится из рук, живу вдвоем с Караем. Толя совершенно спился, лишился прав, не работает, пропадает.