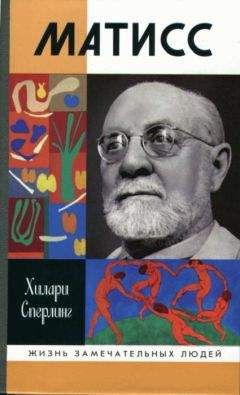Казавшееся бесконечным позирование вконец измучило обоих, и, едва только портрет был закончен, Амели уехала к свекрови в Боэн, а Анри остался в Исси. 1 ноября, в День Всех Святых, когда жена вместе с сыновьями пошла возложить цветы на могилу его отца, Матисс написал матери: «Я могу в этот день не скорбеть, поскольку это никого не излечит, и мне не требуется кладбище, чтобы думать о тех, кого я потерял». Кроме «Портрета мадам Матисс», художник больше ничего не выставил на Осеннем Салоне, который открылся 15 ноября 1913 года. «Он дался мне нелегко, — признался Матисс дочери. — Можно сказать, что он моя плоть и кровь». Сама мадам Матисс могла ускользнуть, незаметно исчезнуть, но ее портрет остался. На Причарда и Щукина (специально приехавшего ради него в Париж) он произвел огромное впечатление. Аполлинер признал его шедевром. И хотя по окончании Салона картина была увезена в Россию и почти полвека ее никто не видел, она имела огромное влияние на молодых художников, подобных Пэчу, знавших портрет жены художника лишь по фотографиям. Дли следующего поколения он олицетворял совершенно новый мир. Мир, к которому принадлежали родившиеся на рубеже веков Луи Арагон, увидевший портрет в журнале («Если тебя интересуют такого рода вещи, негодник, — заявила мать не по годам развитого школьника, — то ты пропащий человек»), и его друг, семнадцатилетний Андре Бретон, который вырезал «Портрет мадам Матисс» из журнала и приколол над кроватью[153].
Оставшийся впервые дома зимой Матисс не находил себе места. В декабре температура опустилась до минус шести, темнеть в мастерской начинало в три часа пополудни, а плотный белый иней покрыл весь сад. Нужно было срочно уезжать на юг. Они с Амели выбирали между Колыором, Аяччо и Барселоной, но потом остановились на Марокко и к Рождеству уже начали паковать вещи, когда в Исси появился Марке. Узнав, что под ним только что освободилась квартира (Альбер Марке жил на пятом этаже хорошо известного Матиссу дома номер 19 на набережной Сен-Мишель), Анри распаковал чемоданы. «Я посмотрел квартиру, и она мне сразу понравилась. Из-за низких потолков освещение в ней было необычным: ее согревали солнечные лучи, отражавшиеся от расположенного напротив здания префектуры полиции. Вместо Танжера наши чемоданы отправились на набережную Сен-Мишель». «Два окна в главной комнате выходят на набережную, спальня, гостиная, кухня, прихожая, отличная планировка, стоит 1300 франков в год, — описывал Матисс новое жилье дочери. — Наконец-то я нашел то, что хотел. Твоя мама, которая отнеслась к этой идее с недоверием, теперь тоже вполне счастлива». Матисс не сомневался, что жена обрадуется возможности вырваться из заточения в Исси, но ошибся. Амели была невероятно оскорблена тем, что он все решил сам, не посоветовавшись, и даже не позвал посмотреть квартиру. Но Матисса меньше всего интересовали обиды жены. Теперь он принимал во внимание только свои потребности, которых, кроме страстного желания писать, у него не было.
Они переехали 1 января 1914 года, на следующий день после его сорок четвертого дня рождения, взяв с собой большую двуспальную кровать, самые ценные картины, скрипку Анри и пианино; присматривать за домом в Исси было поручено прачке (которая согласилась на это за 50 франков в неделю). В маленькой съемной квартире в шумном, многолюдном центре Парижа Матисс чувствовал себя совершенно как дома, не то что в собственном поместье в претендующем на буржуазность Исси. Через несколько месяцев он написал матери, что напряженно работает и стал спать намного лучше с тех пор, как вернулся в дом на набережной. Еще он написал, что синдикат «Медвежья шкура», организованный Андре Левелем для поддержки современного искусства, скупавший десять лет назад почти за бесценок картины у бедных художников (к каковым принадлежал тогда и он сам), провел 2 марта триумфальный аукцион, распродав все с огромной для себя выгодой. «Написанный на твоей кухне “Натюрморт с яйцами”, — сообщал матери Матисс, — который я продал в 1904 году за 400 франков, — что казалось тогда неслыханным богатством, — купили за 2400 франков». Другой ранний натюрморт ушел за 5000 франков, а небольшая, довольно мрачная «Мастерская на чердаке», написанная в мансарде в Боэне в разгар скандала с Юмберами, — за 1850.
Начало 1914 года стало очередным поворотом к дальнейшему «упрощению средств». Из работ прошлых лет были позаимствованы наиболее удачные находки, а круг тем урезан — на первое время до трех юных девушек и собора Нотр-Дам. Знакомые очертания величественного собора, который был хорошо виден из окна мастерской, таяли на его холстах; массивная громада Нотр-Дама превращалась в невесомый, прозрачный куб, парящий на небесно-голубом фоне в окружении черных теней. Брошенное в углу розовое пятно сильнее, чем любая из натуралистических картин, написанных им в это время года прежде, передавала неожиданную для парижской зимы яркость солнечного луча, отразившегося на каменной стене. Причард, бывавший теперь на набережной Сен-Мишель даже чаще, чем раньше в Исси, не сомневался, что в живописи Матисса грядут решительные перемены: «Нас приучают к новому видению».
Природа восприятия, всегда занимавшая Матисса, была одной из ключевых тем публичных лекций, которые читал в Коллеж де Франс философ Анри Бергсон и которые пользовались невероятной популярностью у молодежи. Причард и его юные приверженцы, все как один пылкие бергсонианцы, курсировали между мастерской Матисса и Сорбонной, излагая художнику идеи философа. С основными положениями Бергсона Матисс соглашался, тем более что они помогали ему опровергнуть самого Делакруа. По мнению Матисса, Делакруа излишне переоценивал пользу достижений фотографии: «На самом деле услуга фотографии заключается в одном: она помогает увидеть, что художника заботит еще что-то, помимо внешнего облика», — заявил он, приведя в качестве примера два вида из своего окна. «Он принял идею Бергсона о том, что художник занят поиском реальности и способом ее выражения, — записал Причард в дневнике. — Он также согласен с той точкой зрения, что картина Коро предназначена для того, чтобы на нее смотрели, тогда как его картину нужно чувствовать и ей покоряться»[154].
В этом-то и заключалась суть. Стремление Матисса передать то, на что не была способна фотография, означало следующее: он с еще большим упорством начнет искать тот сокровенный источник энергии, который Бергсон называл «жизненной энергией» (l'élan vital), a Сократ отождествлял с «демоном». Матисса, как и все его поколение, в эти первые годы нового столетия неудержимо влекло подсознательное, но в то же время он боролся с ним и старался контролировать свои действия. «Полностью отдаваться тому, что ты делаешь, и одновременно наблюдать, как ты это делаешь», — эта задача, поставленная им перед собой в Танжере, для такого интуитивного художника, как Матисс, казалась практически невыполнимой. Чтобы примирить идущее от разума с идущим от чувства, он как никогда нуждался в ясном, остром уме Причарда.