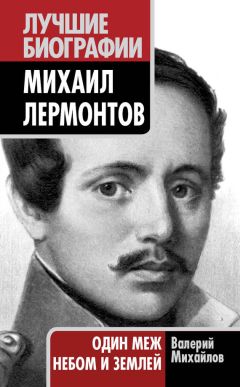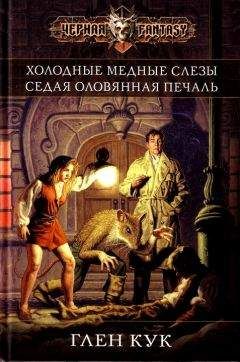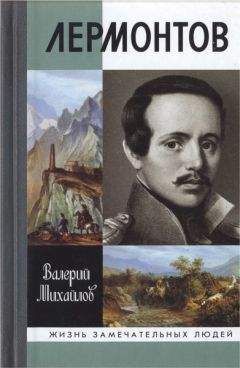Ознакомительная версия.
Зеньковский считает, что в поэзии Лермонтова «впервые для русской души» зазвучали те мотивы персонализма , которым было дано пробудить «драгоценнейшие движения в русской душе (как у Герцена, Достоевского…)», что именно от Лермонтова идет другая линия в русском сознании, – мечта о том, чтобы люди были «вольны, как орлы».
«Неукротимая, безграничная сила индивидуальности, которой нужен весь «необъятный» мир, – вот основа русского романтического персонализма, который не знает и не хочет знать того, что лишь с Богом и в Боге мы обретаем себя, реализуем свою личность. Романтический персонализм Лермонтова, Герцена, Толстого, Блока, Бердяева – это все та же «поэзия земли», поэзия земного бытия, все тот же гимн «существованию», переходящему в философский экзистенциализм. У Пушкина, жажда жизни у которого была не меньше, чем у перечисленных романтиков, было «благоговение перед святыней красоты» – эстетические переживания освобождали его от романтической скованности, от всего, что, будучи не выраженным, держит душу в оковах земли. Пушкин был мудр тем, что освобождался через духовную трезвость от ненасытимости подсознательных желаний, – отсюда и ясность души, и живое чувство того, что надо быть в «соседстве с Богом». Лермонтов же, а за ним и все русские романтики, хотя и жаждут эстетических переживаний, прямо нуждаются в них, но эти эстетические переживания не только не несут свободы духу, но еще больше сковывают его».
В этом всем священник и филолог Василий Зеньковский видел трагедию русского персонализма.
«Вся правда персонализма, все то, чем он полон, остается без воплощения – ибо человек свободен вовсе не как орел, который свободен в своих внешних движениях; человеку нужна
еще свобода духа , то есть свобода с Богом. … именно потому, что мы принадлежим вовсе не себе, а Богу, именно потому есть глубочайшая неправда в остановке духа на самом себе. Мятеж не есть и никогда не может быть выходом – через мятеж нельзя достигнуть покоя. Лермонтов был и остается для нас связанным не запросами его личности, то есть не своим персонализмом; связывал его романтизм, его прикованность к земному бытию».
Довольно странное «приземление» одного из самых небесных поэтов; да и «останавливался» ли дух Лермонтова «на самом себе»? Также удивительно, что Зеньковский, по сути, отрицает, что Лермонтов познал в себе и в своем творчестве свободу духа, то есть свободу с богом . Совсем другого мнения о поэте придерживаются, например, такие глубокие православные мыслители и знатоки лермонтовского гения, как Петр Перцов и Сергей Дурылин.
Так, в своих «Литературных афоризмах» Перцов пишет:
«Пушкин эстетически совершеннее Лермонтова, но Лермонтов духовно – значительнее. На их примере наглядно видно, что в искусстве «главное» все-таки не красота и что само искусство не есть важнейшее явление нашего духовного мира».
Другой афоризм Перцова словно напрямую отвечает заключительному выводу Зеньковского (хотя вряд ли это была «живая» полемика):
«Если считать существом религиозности непосредственное ощущение Божественного элемента в мире – чувство Бога, то Лермонтов – самый религиозный русский писатель. Его поэзия – самая весенняя в нашей литературе, – и, вместе, самая воскресная. Отблеск пасхального утра лежит на этой поэзии, вся «мятежность» которой так полна религиозной уверенности».
И – никаких филологических терминов, никакого «персонализма» и «романтизма»: отблеск пасхального утра …
Сергей Дурылин же невольно опровергает мнение Зеньковского о «приземленности» Лермонтова, о его «прикованности к земному бытию»:
«Лицейские стихотворения» Пушкина – предварительные «игры Вакха и Киприды». Еще нельзя играть в них в жизни – вот он, 14-летний мальчик, играет в них в стихах…
К «Играм Вакха и Киприды» в стихах присоединяются и столь же легкие «Игры Аполлона» – борьба с Шишковым, арзамасские набеги, участие… в литературных спорах того времени. Вот и все.
Точно и не было глубокого, таинственного звездного неба над ним. Точно оно никогда своими звездами не заглядывало ему в глаза, – и не проникало в душу. А в эти же годы Лермонтов – уж думал свою звездную думу, – уже вмешивался в [непримиримую] борьбу ангелов и демонов, уже решал свою загадку, общую с Платоном и Дантом, загаданную Богом и небом земле и человеку…
Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала…
[«1831-го июня 11 дня»]
И раздвоилась русская литература. «Сторожевой демон» верно направил глупый выстрел в сердце 26-летнего юноши, – чтобы «чудесного» не «искали» ни он, ни те, кого он мог научить этому исканию, кто искал бы вслед за ним…
И появились книги без «чудесного»: «Мертвые души», «Губернские очерки», «Обломовы» – и задушили Россию».
В другой записи, сделанной позже, Дурылин развивает свою мысль:
«Лермонтов – на земле – шатун, ходебщик, бездомник; земная жизнь для него – мгновение, перепуток, странное и недоброе «бойкое место», до которого был длинный, длинный путь («И я счет своих лет потерял») и после которого сейчас же начинается новый, другой, длинный-длинный путь… А Пушкин этого не знал. Он – весь на земле. Земля дня него не перепуток, а оседлость, за черту которой он не хотел и не умел выходить…
Как поразительно, что Пушкина Данте коснулся
только своим «Адом» с его земным реализмом мук и мучимых, коснулся своею земною пятою, а Лермонтова коснулся звездным лучом из своего «Рая». Мог ли бы Пушкин – не в 16 даже лет, как Лермонтов – а в поздние годы воскликнуть:
«И я счет своих лет потерял!»
В его устах это была бы риторика, фраза, а Пушкин никогда не говорил «фраз». У Лермонтова же это – пламенное исповедание иной действительности, «загадка вечности», серьезнейшее и подлиннейшее свидетельство о самом себе. Точно так же и другое, лермонтовское из лермонтовских, признание:
И я бросил бы вечность мою —
невозможно, нелепо, немыслимо в устах Пушкина.
…В Лермонтове и была простота мудрости – знания о вечном. А у Пушкина – «мое» обращено только к земле, к земному: вот красавицу жену называет он в минуту страсти «смиренницей моей ». А «вечность моя » в устах Пушкина звучала бы так же дико, как молитва Ефрема Сирина в устах Магомета».
И еще одно отличие двух гениев: Пушкин, по мысли П.Перцова, ко всему относится извне. Его стихи – описания: он еще ничего не принял в себя из мира, он «оглядывает» мир. Пространство в его поэзии преобладает над временем, как зрение над слухом. Пушкин – пластический тип поэта, а не музыкальный, как Лермонтов. В Лермонтова, заметил С.Дурылин, музыка русской поэзии усложнилась, встревожилась, ополнозвучилась .
Ознакомительная версия.