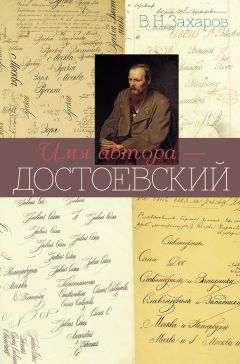Ознакомительная версия.
В мировой литературе было немало писателей, которые превосходно знали Священное писание, изучали его, использовали библейские мотивы и образы в своем творчестве. Но вряд ли найдется, кто, как Достоевский, не только четыре года читал только одно Евангелие, но пережил и прожил его как свою судьбу: страдания, смерть и воскрешение Христа как свою смерть в Мертвом Доме и свое воскрешение в новую жизнь. Эта книга вобрала в себя не только страдания, но и духовный опыт писателя – на то указывают его пометы карандашом, чернилами и ногтем в тексте и на полях Евангелия.
Итогом этих каторжных обдумываний стала сочиненная, но незаписанная статья «о назначении христианства в искусстве», о которой он написал барону А. Е. Врангелю в Страстную пятницу 1856 г.:
«Всю ее до последнего слова я обдумал еще в Омске. Будет много оригинального, горячего. За изложение я ручаюсь. Может быть, во многом со мной будут не согласны многие. Но я в свои идеи верю и того довольно. Статью хочу просить прочесть предварительно Ап. Майкова. В некоторых главах целиком будут страницы из памфлета.
Это собственно о назначении христианства в искусстве. Только дело в том, где ее поместить?» (Д18, 15.1; 167). Статья так и осталась ненаписанной – негде было поместить, но взгляд Достоевского на эту тему выражен во всём его творчестве.
У Достоевского была почти религиозная концепция творчества. Как священник на исповеди, писатель был исповедником своих героев. Их грехи становились его грехами, увеличивая тяжесть его креста. Свою вину герои и их автор разрешают самим актом творчества: исповедью, покаянием и искуплением своих и чужих грехов.
Позже эта идея была выражена в служении и поучениях старца Зосимы: сделать себя ответчиком за чужой грех. Виноваты все. У каждого своя мера вины. Одни виноваты в том, что сделали, другие – в том, что не сделали. Кажущаяся невиновность лишь иллюзия: каждый в ответе за мировое зло. Достоевский верил, что возможны духовное воскрешение и спасение любого человека (обращение Савла в Павла). Этот искупительный путь человека – метафора спасительной жертвы Христа и его воскрешения.
Есть разные ответы на извечный русский вопрос, кто виноват. Один из ответов подкреплен высоким авторитетом Л. Н. Толстого: «Нет в мире виноватых». Это толстовская претензия Богу: люди не виноваты в мировом зле, начала и концы вины давно потеряны, надо всем друг друга простить и начать всё снова. Прощали, начинали, но всё возвращалось на «круги своя». Другой ответ – виноват некто: плохой человек, помещик, заводчик, царь, класс, революционеры, партаппарат, президент, демократы, олигархи и т. д. За этим ответом почти всегда стоит кровь – «дурная бесконечность насилия».
Евангелие дает для понимания Достоевского больше, чем любые исследования о нем.
Достоевский, как никто другой, усвоил эстетический принцип Нового Завета – евангельский реализм.
Достаточно вспомнить, кáк евангелисты рассказали о рождении, служении, страстях и воскрешении Спасителя. Их повествование содержит такие случайные и неожиданные детали, которые были бы излишни в вымышленном сочинении, но в Благой Вести они – свидетельство очевидцев. Евангелисты представили сомнения Мессии, поведали, как грешники стали апостолами Христа.
Как эстетический принцип христианский реализм появился задолго до открытия художественного реализма в искусстве. Он выражен в новозаветной концепции мира, человека, в двойной (человеческой и Божественной) природе Мессии. Он неизбежен в агиографии, в которой сначала герой, а затем и автор жития следовали эстетическому канону Евангелий. Он выразился в высших художественных достижениях христианской живописи – в полотнах титанов Возрождения (и как тут не вспомнить так чудно действовавшую на Достоевского Мадонну Рафаэля), в картинах на евангельские сюжеты Рембрандта, в картине русского художника Александра Иванова, о которой писал Гоголь: «Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно – первое появленье Христа народу» (Гоголь 6; 111). Художник справился с задачей «изобразить на лицах весь этот ход обращенья человека ко Христу», «представить в лицах весь ход человеческого обращенья ко Христу» (Там же, 112, 113), то есть с задачей обращения к Христу человека и человечества.
Как этический и социальный (шире – философский) принцип, христианский реализм был осознан русским философом С. Л. Франком, который изложил свое этическое учение в труде «Свет во тьме», обращаясь к духовному опыту русской литературы и особенно Достоевского (Франк 1949; ср.: Ильин 1937).
Русская литература овладела этим принципом в XIX в.
Он воплощен в прозе Достоевского.
В его творчестве христианский реализм проявляется в живых подробностях бытия. В них раскрывается не только историческая реальность, но и мистический смысл происходящих событий, свершающихся как бы на глазах читателя. Автор представляет события в их случайном проявлении и Божественном предназначении. Эстетический принцип множественности точек зрения в тетра-евангелиях предвосхищает «полифонический роман» и диалогизм поэтики, христианская концепция человека и мира во многом объясняет антропологические открытия Достоевского. Оригинальность Достоевского состоит не в исключительной новизне, а в последовательном и бескомпромиссном следовании евангельским истинам.
К откровению христианского реализма писатель пришел на Омской каторге, когда в его жизни случилось трудное и страдательное перерождение убеждений.
Как проницательно заметил Гоголь по поводу художника А. Иванова:
«…пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне». Исполнение задачи – «чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину…» (Гоголь 6, 113).
Это новое эстетическое качество реализма ясно выражено в «Записках из Мертвого Дома» и в этических установках «Униженных и Оскорбленных», оно присутствует в замысле «Записок из подполья», но бесспорно явлено в первом романе знаменитого «пятикнижия».
Вспоминая Пушкина («Еще Пушкин, милый Пушкин наметил сюжеты будущих своих романов в “Онегине”…»), Достоевский писал в черновых набросках к роману «Подросток»:
«Ну так будь я романистом, я могу быть в высочайшей степени реалистом. Я могу совершенно не скрывать, что герои мои зачастую самые обыкновенные люди, что из них есть смешнейшие люди, клубные старички, московские сплетники. Я покажу даже уродливейших калек, как Сильвио и Герой нашего времени» (РГБ. 93.I.1.8/21. С. 1).
Так и в творчестве Достоевского.
«При полном реализме» пьяненький Мармеладов призывает Христа рассудить его вину, Миколка хочет безвинно пострадать; Лизавета подарила кипарисовый крест и Евангелие Соне, а та передарила их «бедному убийце»; убийца и блудница читают вслух о воскрешении Лазаря и толкуют Евангелие; Соня отправляет Раскольникова на перекресток поклониться народу, поцеловать землю и признаться: «Я убийца!»; народ называет каторжан «несчастными»; Раскольников кладет перешедшее от Лизаветы и Сони Евангелие под подушку (как когда-то в Омске, на каторге, берег эту книгу сам Достоевский); и завершается роман апофеозом христианской любви («Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого») и обещанием будущего воскрешения Раскольникова.
Герои Достоевского, а это «смешные люди», «подпольные парадоксалисты», герои «слабого сердца», пошлые и великие грешники, разбойники и блудницы, ждут и призывают Мессию. Их спасти являлся в мир и вернется еще раз Христос.
Автор, реалист «в высшем смысле», не боится представить своих героев в сниженном виде[3], представить, к примеру, «идиотом» князя Мышкина, «Князя Христа» – по метафорическому определению самого писателя. Можно много и бестолково спорить и критиковать Достоевского за эту формулу «Князь Христос», но причина ее непонимания не в авторе, а в нас – понимаем мы или не понимаем переносные значения слов. Эта формула – метафора, смысл которой не подмена одного другим, а уподобление Христу.
В романе Достоевский создал образ не просто «положительно прекрасного человека», но христианина, т. е. человека, живущего по Христовой любви, по заповедям Нагорной проповеди вплоть до трудно исполнимого: «возлюби врага своего». Таков эффект финальной сцены романа, последнего братания Мышкина и Рогожина у тела убитой Настасьи Филипповны.
Христос назван в Евангелии женихом. Метафорически, конечно. Так представлен в романе князь Мышкин – в буквальном и переносном смысле. И не в бытовом ли истолковании метафоры кроется причина фабульной несостоятельности князя в роли реального жениха Настасьи Филипповны и Аглаи? Бессмысленно винить Мышкина за то, что он не женился. В романе он – жених по высшему призванию: всё возвышает и примиряет Христова любовь. Евангелие проливает свет на многие мотивы, поступки, характеры и идеи романа «Идиот».
Ознакомительная версия.