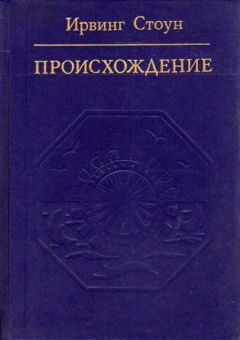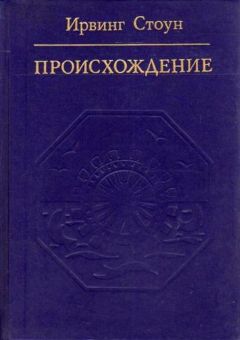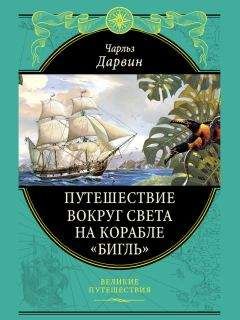Домашние и гости со временем привыкли к этому тяжкому испытанию. Правда, любимая кузина Чарлза Эмма Веджвуд как-то заметила с кислой миной на лице:
– Как это утомительно – два часа кряду слушать доктора, когд5 знаешь, что ужин давно на столе.
Зачастую слушатели начинали ерзать на стульях, но перебивать оратора никто из них все же не решался. Дети, во всяком случае, осознавали, что их отцу просто необходима эта демонстрация своего искусства, чтобы иметь возможность как следует расслабиться, а затем, насладившись ужином, быстро заснуть. Весь день отец слушает своих пациентов, а вечером сам становится одним из них – этот каламбур помогал им переносить отцовские монологи.
"Не столь уж дорогая цена, чтобы сделать отца счастливым, – рассуждал Чарлз. – В сущности, он, должно быть, очень одинок".
Мать Чарлза умерла четырнадцать лет назад. Насколько было известно, доктор Дарвин ни разу за все это время не обратил внимания ни на одну женщину. Очевидно, он не собирался жениться вновь или просто позволить себе кем-либо увлечься. В этом отношении он был прямой противоположностью своего отца, доктора Эразма Дарвина, настоящего английского Гаргантюа. Спустя одиннадцать лет после смерти жены, матери доктора Роберта Дарвина, дед, у которого за это время было несколько романов, повел форменную осаду одной из самых обольстительных вдов в Дербшире – Элизаб.ег Поул. Несмотря на то что к ней сватались женихи куда моложе и симпатичнее, чем он, вдова предпочла все же доктора Эразма Дарвина. Элизабет родила ему семерых детей, и он жил с ней в мире и согласии ровно двадцать один год, до самой смерти.
Случалось, Чарлз задумывался: а какой, интересно, была бы их жизнь в Маунте, появись в доме мачеха. Каролина конечно же с радостью свалила бы со своих плеч, груз домйшних забот, но лично ему такая перспектива не слишком улыбалась.
И вовсе не потому, что в душе он хранил верность умершей матери. Он попросту не помнил ее – разве что какой-то смутный образ угасавшей женщины: черный бархат халата, необычного вида рабочий столик рядом с кроватью и одна или две короткие совместные прогулки. Бедность его воспоминаний казалась непостижимой, и это беспокоило его. Сын должен думать о матери, особенно такой красивой и благородной, как Сюзанна Веджвуд. Хотя она и долго болела, но ведь в далеком детстве они должны же были проводить вместе немало времени. Но и о той поре он ровным счетом ничего не помнил, кроме однажды произнесенных ею слов:
– Если я прошу тебя сделать то или другое, помни: это для твоего же блага.
Когда она скончалась, Чарлзу было восемь лет. Он вспоминал лишь, как его позвали в ее комнату и на пороге он столкнулся с рыдавшим отцом. Казалось, гигантская губка стерла все другие воспоминания, лишив его всякой памяти. Раздумывая сейчас над этим странным феноменом, он решил, что виноваты тут, по-видимому, сестры, которые никогда не говорили о матери и даже не упоминали ее имени, как, впрочем, и следовавший их примеру отец. Казалось, что женщины, бывшей ему женой двадцать один год и родившей ему шестерых детей, вообще никогда не существовало.
Чувство утраты еще больше усиливалось оттого, что Чарлз необычайно отчетливо помнил похороны драгуна, увиденные однажды по дороге в школу мистера Кэйса, куда он стал ходить сразу же после смерти матери. До сих пор перед глазами его стояла лошадь с перекинутыми через седло башмаками ее хозяина, а в ушах раздавались ружейные залпы солдат над могилой товарища.
Профессор Седжвик поднялся, дожидаясь, пока доктор Дарвин пройдет оранжереей, поздоровается с ним и опустится на свой стул, выставив перед собой ноги. Из вежливости и уважения к профессору из Кембриджа ежедневная беседа была сведена всего к одному часу.
Седжвику доктор Дарвин показался человеком-горой, но отнюдь не толстым. Свои триста сорок фунтов он носил с поразительной легкостью. Дети нередко сожалели, что отцовский голос не отличается той же мягкостью и нежностью, что и походка. На его огромной голове с покатым лбом и скошенным затылком волос по бокам оставалось ровно столько, чтобы создать украшение для ушей. Когда-то поразительно тонкие брови отца были, по воспоминаниям Чарлза, иссиня-черными; теперь они превратились в еле видные изгибы над набухшими веками маленьких широко расставленных глаз; нос, казалось, занимал все лицо. Раньше у отца и подбородок был таким массивным, что нельзя было определить, где он переходит в щеки; теперь, отвиснув, он упирался в узел чистого белого шарфа. Лицо дышало мощью. Нет, он не запугивал своих детей, не давил, на них своими размерами. Просто, как заметила Кэтти:
– Отец занимает в комнате столько места, что стены начинают как бы заваливаться и рушиться прямо на тебя.
"Может, это и случилось с матерью после двадцати одного года замужества?" – думал Чарлз.
По рассказам, Сюзанна Веджвуд была тоненькой, хрупкой женщиной. Никто так и не узнал, отчего она умерла. Уложила ли ее в постель постепенно подтачивавшая силы болезнь, или просто в пятьдесят два года его мать слегла, решив удалиться от мирской суеты?
Сам Маунт своими размерами был под стать доктору Роберту Дарвину, что, впрочем, вполне соответствовало и его большим доходам, и вложенным в имение капиталам – своим собственным и жены. Его тесть, Джозайя Веджвуд-старший, возродил пришедший в упадок гончарный промысел, ранее поставлявший в основном примитивные чашки и молочные кувшины английским крестьянам, и превратил его в подлинное искусство, нашедшее признание во всем мире. Он оставил дочери Сюзанне двадцать пять тысяч фунтов стерлингов, не считая ценных бумаг. Всю жизнь Джозайя дружил с другим гигантом, Эразмом Дарвином, и был в восторге от того, что сын доктора Дарвина стал мужем его дочери. Роберт Дарвин проявил незаурядные способности коммерсанта, вложив деньги жены в надежные десятипроцентные облигации. Он вел наиподробнейший учет истраченного до последнего пенса. К тому времени, когда Сюзанна умерла, ее доля составила целое состояние.
После рождения первого ребенка, Марианны, в начале 1800 года, они перебрались из одного пригорода Шрусбери, Кресента, в другой – Маунт, где девять лет спустя родился Чарлз. Занимаясь планировкой участка, доктор Роберт Дарвин стремился к тому, чтобы своими размерами он был под стать его собственной фигуре, напоминавшей шекспировского Фальстафа. И его габариты, и его имение сослужили ему хорошую службу: на пациентов подобное сочетание действовало прямо-таки целительно – немаловажное обстоятельство, ибо в ту пору врач мало что мог им предложить, кроме кровопускания и пилюль. В противоположном конце зимнего сада показался Эдвард, их давнишний слуга, в стареньком черном фраке с длинными фалдами, с пристегнутой белой накрахмаленной манишкой и стоячим воротником, в жилетке поверх широкого черного галстука, в черных бриджах и белых чулках. Объявив, что ужин подан, он при этом почти незаметно подмигнул Чарлзу как своему старому другу.