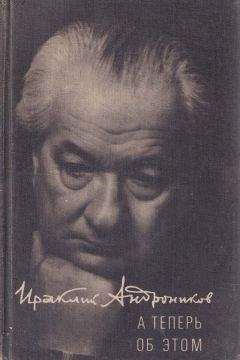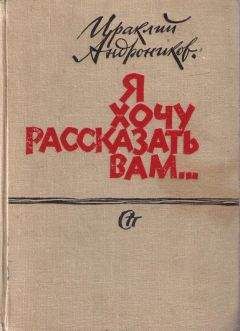Нагнулся, запустил в собаку снежком, посмотрел и развеселился.
Прошли мимо домика, где прежде жила фрейлина Вырубова — та, что первой способствовала возвышению Распутина. Толстой с брезгливой гримасой стал говорить о Распутине:
— Наглый темный мужик с белыми страшными глазами. Обладал чудовищной гипнотической силой. Никто не мог устоять перед ним… Верн! Нечистый дух! Провались ты!.. Аристократки, которые не давали никому дотронуться до себя, ехали к нему на Гороховую, чтобы он возложил на них руку. Привозили к нему пятнадцатилетних дочек, потому что старец захотел вкусить благодати… Распутин — последний срам царской России, высшее выражение ее деградации. Он из царя Николая последние мозги вышиб… Верн, идиотская морда! Пшел вон!..
Записки писал безграмотные: «Министрик миленький. Ты етова мальчика назначь в большие начальники, а то я на тебя стану сердица. Гриша». …Вареную рыбу хватал руками, с костями жрал, сидел весь перемазанный, рыгал, вытирал руки о волосы истеричек, которые дрались за право сидеть у его ног. А он их стравливал… История дома Романовых закончилась непристойным фарсом… Провались, окаянный! Верн, идиот!.. Тьфу…
Все, что происходило в Зимнем дворце в последние годы императорской власти, Толстой знал как историк — знал много, досконально, а главное — видел: живо, картинно.
В 1925 году с громким и долгим успехом в Ленинграде, а потом и по всей стране пошла пьеса Толстого и знаменитого историка Щеголева «Заговор императрицы», написанная по материалам Следственной комиссии, которые находились в распоряжении Щеголева. С описания тех же последних дней существования Российской империи Толстой начал свою трилогию «Хождение по мукам». Первый роман этой исторической эпопеи — «Сестры» — читали запоем. «Восемнадцатый год» в то время, если меня не подводит память, печатался в «Новом мире». О содержании третьей части трилогии можно было только гадать. В разговорах она называлась «Год девятнадцатый». Понятно, что мне, как и многим другим читателям, хотелось узнать, чем там кончится. Все хотел спросить, да стеснялся. А тут решился — спросил. Толстой как-то не очень охотно сказал:
— Даша и Телегин останутся живы…
— А Катя и Рощин?
— Катя и Рощин? (Подумал.) Катя и Рощин… Окажутся в эмиграции. Пройдут через муки скитальчества и унижений… А в конце? — вернутся на родину, обращенную к новой жизни…
Дальше шли молча. Вдруг Толстой сказал недовольно:
— Ты куда смотришь!.. Гляди лучше на эти аллеи, на парк бесподобный, засыпанный белым… Красотища неописуемая!.. Эта Софья Ангальтская знала, как оставить по себе память… Принцесса немецкая, перекрещенная в Екатерину Вторую… Купила лучших европейских художников, архитекторов, скульпторов, велела строить новый Версаль. Русские мужики внесли в эти дворцы русское совершенство. И во всем превзошли Версаль… Здесь все мягче, живее, прекраснее. В этих парках воспитывался гений Пушкина… А у нас тут, в Детском, живут художники, из окна каждый день видят все это, а сидят в кислых, вонючих комнатах с закрытыми форточками и малюют лиловым цветом лафитник с обглоданной селедкой и морду свою сопатую, в зеркало… Тьфу! Верн! Бесстыжий пес! Домой!.. Искусству, как человеку, нужен простор, нужно дело, цель нужна. В комнате можно только воплощать замысел. Стены не могут быть границей мира.
Я спросил:
— А Марсель Пруст?
— Что Марсель Пруст?
— Он из-за астмы всю жизнь просидел в четырех стенах, не мог выходить из комнаты.
— Ну… больной человек…
— Значит, то, что он пишет, — не искусство?
— Если б он был здоровым — его книжки надо было бы выкинуть в нужный чулан. А для больного это — проявление воли, преодоление. Но читать его все равно невозможно. Это — эксперимент. Величие литературы в умении видеть весь мир, изобразить самое главное!
— А разве можно в одном произведении изобразить главное?
— Я же говорю не об одной книжке, я — о литературе тебе говорю… Верн, сейчас же перестань лаять, неврастеник несчастный. В другой раз будешь сидеть взаперти!.. Идем домой. Сейчас же после прогулки надо встать у конторки и, не отвлекаясь, написать хотя бы несколько фраз. Это самое важное. Дальше будет уже много легче… I!ойдем.
1
В мае 1939 года Алексей Николаевич Толстой собрался на один день в Ярославль: в Театре имени Волкова впервые шел его «Петр Первый». Толстой пригласил меня поехать с ним. Оба мы, он и я, давно уже жили в Москве.
— В машине есть одно место, — сказал он мне по телефону, — едем мы с Людмилой, Тихонов Александр Николаевич и режиссер Лещенко. Застегнись и выходи к воротам. Мы заезжаем за тобой…
За все двадцать лет, что я знал Алексея Николаевича, никогда еще характер его не раскрывался для меня с такой полнотой, как тогда, в этой поездке.
…Он сидел рядом с шофером, в очках, с трубкой, в берете, сосредоточенный, серьезный, даже чуть-чуть суровый: на вопросы отвечал коротко, на разговоры и смех не обращал никакого внимания.
С утра он часто бывал в таком состоянии, потому что привык в эти часы работать. А работал он ежедневно. Каждый раз писал не менее двух страниц на машинке и даже в том случае, если вынужден был утром куда-то ехать, старался написать хотя бы несколько фраз, чтобы не терять ритма работы. И теперь, в машине, он что-то обдумывал молча. А дома, бывало, из кабинета его доносятся фразы — Толстой произносит их на разные лады. Он потом объяснял:
— Это большая наука — завывать, гримасничать, разговаривать с призраками и бегать по кабинету. Очень важно проверять написанное на слух… Стыдного тут ничего нет — домашние скоро привыкают…
Когда он творил, его трудно было отвлечь. То, что в данную минуту рождалось, было для него самым важным. Он говорил, что, когда садится писать, — чувствует: от этого зависит жизнь или смерть. И объяснял, что без такого чувства нельзя быть художником.
Но вот мы проехали Загорск, пошли места новые, незнакомые, — и Толстой словно преобразился. Поминутно выходил из машины и с огромной любознательностью, с каким-то детским удивлением, с мудрым вниманием, мигая, неторопливо и сосредоточенно рассматривал (именно рассматривал!) расстилавшуюся по обе стороны дороги переславскую землю — каждую избу с коньком, колхозный клуб, новое здание почты, старую колокольню, кривую березу на обочине, сверкающие после дождя лужи и безбрежную даль озера… То восхищенно хохотнет, то замечтается или пожмет в удивлении плечами. Он впитывал в себя явления природы сквозь глаза, уши, сквозь кожу вливалась в него эта окружавшая жизнь, этот светло-зеленый мир.