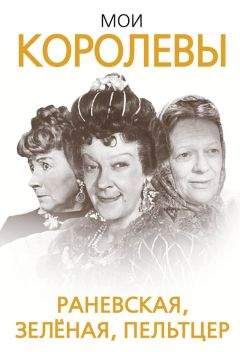Выступление в «Докторе Штокмане» для нее было лишь развлечением, но для жизни Серафимы оно имело решающее значение: когда летом сестра приехала в Кишинев, Сима увидела у нее фотографическую карточку неизвестного господина – седого, но с черными, как уголь, бровями и такими же черными усами.
– Кто это?
– Артист. Главный артист одного московского театра. Я играла с ним вместе на сцене. Да. Играла. И он был мною очень доволен. Серафима! Поступай в этот театр… Гимназию ты кончила. Тебе шестнадцать лет. Поступай! Может быть, из тебя что-нибудь и выйдет. А театр этот хороший. Художественный! Все хвалят…
В Москву Серафима тогда не поехала, а целый год прожила у сестры, которая служила врачом в деревенской больнице, построенной помещиком этой деревни, водила Серафиму с собой в избы, чтобы подвести к лицу жизни без прикрас. Она настаивала, например, чтобы девушка присутствовала при родах… А юная Сима зажмуривалась, когда видела жизнь, не соответствующую ее мечтам о ней: «Я видела, как женщина, в трех шалях на голове, стояла по колени в проруби – стирала белье. Видела, как моя сестра, узнав в ней свою пациентку, недавно родившую ребенка, полезла за ней чуть ли не в самую прорубь и вытащила оттуда женщину, причем и доктор и пациентка ругались, целовались и плакали обе. Теперь мне очень досадно, что я была такой «мимозой», тем более, что мой высокий рост и резкие черты лица так противоречили лирике и мечтательности моего внутреннего мира. Сейчас непонятно, как это могла я жить с психологией недотроги XIX века? Ведь время было уже совсем другое…»
На сцену Серафима Бирман впервые вышла в доме соседа сестры – депутата первой Государственной думы Константина Федоровича Казимира. Семьи у него не было, родственники жили за границей, он редко бывал дома. Многим помогал, молодым людям давал среднее и высшее образование, открывал на собственные средства и содержал во всех своих имениях школы, оборудовал для деревенских жителей больницы и общественные бани. Казимир заплатил за первый год обучения в театральной школе и Серафимы. Летом в его саду устраивались любительские спектакли, в которых Бирман и режиссировала, и сыграла свои первые роли: Мерчуткину и упрямую невесту в «Предложении». Стихия театра бушевала в ней, «рассудку вопреки» и вопреки полученному сурово пуританскому воспитанию.
* * *
«В июле 1908 года я поехала в Москву. За счастьем… – писала Бирман. – Долговязое, наивное и самолюбивое создание! Провинциалка! На основании одной только «веры в себя» ты осмелилась посягнуть на путешествие в Москву? За судьбой актрисы неслась ты? Да соображаешь ли, что ждет тебя в большом городе? Нет, не соображаю… И… еду!!! Еду в Москву!!!»
Бирман поступила сразу в два учебных заведения: на историко-филологический факультет Высших женских курсов Герье и в драматическую школу Александра Адашева, актера Художественного театра. Причем, на прослушивании она провалилась с треском, но ее все-таки приняли. Почему? Может быть, потому, что своей внешностью Бирман буквально ошеломила экзаменаторов. Была она после брюшного тифа – волосы еще не отросли, вместо локонов на голове был воздет желтый шелковый чепец с тюлевыми уродливыми оборками. А платье было с длинным шлейфом. На тощее тело Серафима «для вящей неотразимости» надела корсет, который был шире нее самой. При всем этом «оснащении» у девушки был сильный южный акцент. Может быть, Серафиму Бирман взяли из-за профессионального любопытства. Для контраста с другими студентками. Но, так или иначе, она стала учиться в школе драматического искусства, где преподавали знаменитейшие актеры Василий Качалов, Леонид Леонидов, Василий Лужский, которые вносили с собой дух Художественного театра. Ученики благоговели перед своими учителями. Иные в антрактах между уроками бегали стаей к вешалке целовать подкладку пальто Василия Васильевича Лужского. А одна из учениц съела лимон из стакана Василия Ивановича Качалова, рассчитывая таким простейшим способом пропитаться его талантом и обаянием.
Затем в школе появился Леопольд Антонович Сулержицкий, который был послан Станиславским с вполне определенным заданием первого практического испытания зарождающейся «системы». Он внедрял и развивал ту новую внутреннюю технику, которую Станиславский считал необходимой актеру для создания творческого самочувствия по воле своей. Сулержицкий хотел от студийцев переживания роли, а не ее представления.
Серафима Германовна с досадой вспоминала: «За все школьные годы у меня не было отрывка, сколько-нибудь соответствующего моим склонностям и возможностям. Трудноопределимой актерской индивидуальностью была я. Не нашлось мне применения. Неудачи в школе смертельно ранили меня. Оставить мысль о театре? Какие разные миры: классы драматической школы и аудитории Политехнического музея! Я и сама была «двуликой»: одна – в школе, другая – на курсах. Я не любила курсов. Вся моя душа была на Тверской-Ямской, в школе, в отрывках…»
Материально не обеспеченных в школе было много. Чтобы их не исключили за неуплату, было решено устроить несколько шуточных вечеров, на которые продавались билеты. Программу сочиняли сами под творческим руководством студента Евгения Вахтангова. И именно на этих шуточных вечерах Серафима Бирман впервые в жизни ощутила ту свободу от самой себя, какую дает характерность, узнала радость намека на сценическое перевоплощение. На сцене она стала свободной, легкой и веселой… До того веселой, что педагоги испугались. Острая характерность, граничащая с наивным и дерзким гротеском, привлекала к ней внимание, но не всегда симпатии. Лужский считал, что ее надо образумить, охладить: и дал на выпускном экзамене сыграть Жанну д'Арк. Из этой затеи ничего не вышло, роль она провалила. Когда Бирман окончила школу, ее не пригласил ни один театр.
Но похлопотал Качалов, написал письмо Немировичу-Данченко, и Серафиму Бирман взяли в МХТ. На роли без слов. В тот 1911 год в театр после долгой болезни вернулся Константин Сергеевич Станиславский.
* * *
«Станиславскому я обязана всем своим существованием на сцене. Без него я бы не удержалась не только в Художественном, но и вообще в театре, – всегда говорила Бирман. – Я казалась многим если не странной, то чудной, и в театре сначала отнеслись ко мне настороженно, а может быть, и хуже. Станиславский не удивился мне и не пренебрег мной, восторженной и робкой, неловкой от застенчивости, бестактной от наивности и от этой же наивности отважной…»
В 1911 году Художественный театр закладывал первые камни фундамента «системы» Станиславского. Вся труппа, все до единого служители были в движении. Руководили «строительством» два человека, совершенно разных, но тогда слившихся в одно: Станиславский и Немирович-Данченко.