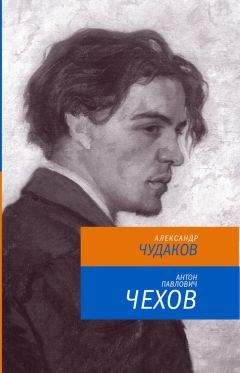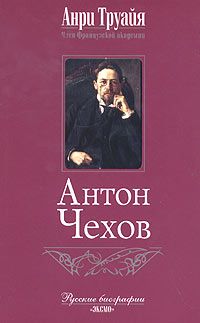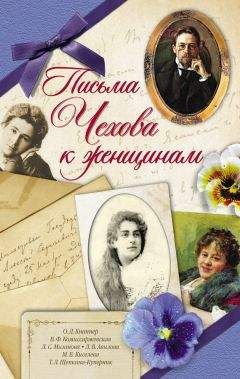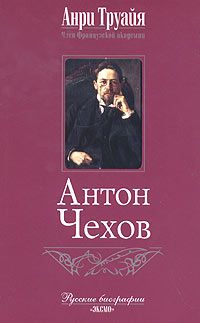Ознакомительная версия.
В этом стиле в письмах Александра выдержаны целые сценки, рисующие жизнь семьи в первые годы пребывания в Москве:
«Часто по вечерам собираются Чеховы обоего пола, Свешниковы и вообще вся Гавриловщина […]. По мере промачивания гортаней голоса очищаются и ярые любители согласованного пения начинают вельми козлогласовать […]. И все идет согласованно и чинно, услаждая друг друга и по временам лобызаясь в заслюненные от сладости уста. Иногда же некто, дирижировавший во дворце (Павел Егорович. – А. Ч .), тщится придать концерту еще вящую сладость, помавает десницею семо и овамо, внушительно поя “Достойно” на ухо поющему “Лучинушку”. Жёны же благочестия исполняются и, откинув ежедневные суетные помышления, беседуют о возвышенных материях, как то: о лифах, турнюрах и т. п. Долго таковая беседа продолжается, дондеже ризы не положатся вместе с облаченными в них…» (март 1877).
Такие письма Антон Чехов получал, когда едва начинал пробовать перо. К этому стилю, макаронически перемешивающему церковнославянизмы со словами самыми современными и копирующему мелодику библейской речи, близки многие места из рассказов раннего Чехова:
«Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще гласности? […] Доктор сквернословия есмь и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал да на диспутах разнородных прощелыг побеждал […] А что я, други мои, претерпел в то время, так одному только богу Саваофу известно… Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу […]. Страдал и мучился за идеи и мысли свои; за поползновение к труду благородному мучения принимал» («Корреспондент», 1882).
Любопытно сравнить употребление одного и того же приема у братьев: Антон делает это без нажима, не сгущая, не нагнетая славянизмы, используя их как знак, налет, легкую краску.
Юмористическое, сатирическое использование церковнославянизмов – это лишь первый по времени и глубине пласт. Влияние на Чехова этой речевой традиции была долговременное и многоохватное. Справедливо заметил первый биограф Чехова, А. Измайлов:
«Тяготение отца к церкви и к “божественной” книге, семейные чтения из Четьи Минеи нечувствительно держали А. П. в общении с чудесным старым языком, не позволяли ему забыть его и разминуться с ним, как случается с огромным большинством русской интеллигенции, создавали в нем то чуткое ощущение простого исконно русского слова, которое неизбежно вызывало антипатии ко всякой наносной иностранщине […]. В его книгах можно найти сотни доказательств того, как в ощущении простоты, красоты и, скажем, родовитости слова, исконной его принадлежности к русскому языку его выручало обращение к корням языка житий, прологов…»
Среди проповедников, которых приходилось слушать в детстве Чехову, был настоятель таганрогской Архангело-Михайловской церкви В. Н. Бандаков; в его изданных в 1887 году проповедях есть «Поучение по случаю всенощного бдения, совершенного в доме Чехова». Проповеди его были не совсем обычны. Об их авторе Чехов потом напишет: «Обладая по природе своей крупным публицистическим талантом, в высшей степени разнообразным, он редко останавливался на отвлеченных богословских темах, предпочитая им вопросы дня и насущные потребности того города и края, в котором он жил и работал; неурожаи, повальные болезни, солдатский набор, открытие нового клуба – ничто не ускользало от его внимания […]. Он не боялся говорить правду и говорил ее открыто, без обиняков; люди же не любят, когда им говорят правду, и потому покойный пострадал в своей жизни немало» («В. А. Бандаков. Некролог», 1890).
3
Таганрог имел и третий лик – степной, морской. Не морской торговый, но морской солнечный, песчаный. Город стоял на берегу теплого залива, а прямо за шлагбаумом начиналась степь.
В гавани ловили рыбу на удочки. Павел Егорович к такому занятию относился терпимо – была «маленькая польза». Антон смастерил поплавки-человечки: когда рыба клевала, человечек погружался и подымал руки кверху. Бычков ловили сотнями. Столько было не нужно, они портились, но остановиться не могли. «Плескание» и лежанье на песке Павел Егорович не одобрял, но все же ходили и просто купаться, заплывали далеко, ныряли. (Когда Чехов возвращался с Сахалина Индийским океаном, он придумал себе развлечение: нырял с носа парохода на полном ходу и хватался за конец, кинутый с кормы.)
С моря возвращаться приходилось рано; пока проходили Банный спуск, снова становилось жарко. Копейка, чтобы купить «сахарного» мороженого у мороженщика Григория, бывала редко.
«У кого есть копейка, тот ест из зеленой рюмочки, ест долго, с чувством, толком, расстановкой, боясь не уловить минуты блаженства, чавкая, облизываясь, облизывая пальцы. Один ест, а десятка два не имущих копейки стоят “руки по швам” и с завистью заглядывают в рот счастливчика. А тот ест – и ломается…
– Пётра, дай… ложечку! – стонет девочка, следя за правой рукой счастливчика.
– Отстань! – говорит счастливчик и крепко сжимает в кулаке зеленую рюмочку.
– Пётра! – стонет мальчик в большом отцовском картузе. – Одолжи!
– Чего?
– Сахарного морожена. Немножко. (Пауза.) Дашь? Ты ложечку. Я тебе пять бабок дам.
– Отстань! – говорит счастливчик.
Счастливчик съедает свою порцию, долго облизывает губы и долго-долго живет воспоминаниями о сахарном мороженом» («Ярмарка», 1882).
Но зато когда у братьев появились свои деньги от продажи птиц, от репетиторства, – они стали постоянными клиентами мороженщика.
Попав через 7 лет снова в Таганрог, Александр Чехов напишет брату: «Видел мороженщика Григория. Он узнал меня и осклабился с фразою: “Господин Че-е-ехов!” Я купил у него мороженого, заплатив впятеро, но не ел из предосторожности».
Зимой Таганрогский залив был неприветлив, подледный лов рыбы опасен. Сбивались в артели, ловили огромными неводами – до 300 сажен длины, влекомыми подо льдом (попадались белуги до 90 пудов весом). Ловили и в одиночку. Все время рассказывали, как провалился под лед то местный мещанин, то двое каких-то пришлых, то лошадь. Когда вдруг начинался ураганный ветер, метель, на льду, в десятках километров от берега, замерзали целыми артелями. Иногда ветер взламывал лед и рыбаки оказывались отрезанными от берега.
Один из таких случаев запомнился братьям. Александр Чехов описал его в рассказе «Ночной трезвон», сохранив, как обычно, в точности все реалии (приморский город, семь церквей, сорок два рыбака и т. п.):
«Ночь под Рождество. Все церковные службы давно уже окончены […], но с колоколен всех семи церквей города несется беспрерывный и в то же время беспорядочный трезвон. […] Третий день уже бушует беспросветная и беспрерывная вьюга. […] Еще два-три такие ужасные дни, и весь приморский большой город будет до крыш занесен снегом и потонет в сугробах […]. Сорок два рыбака погибают там, далеко, верст за тридцать в открытом море, на льду… Для них-то и раздавался ночной трезвон во всех церквах города».
Ознакомительная версия.