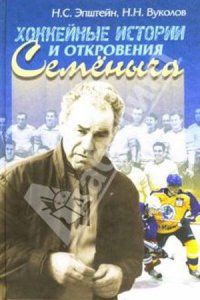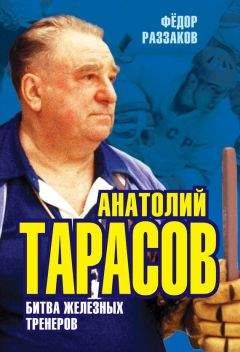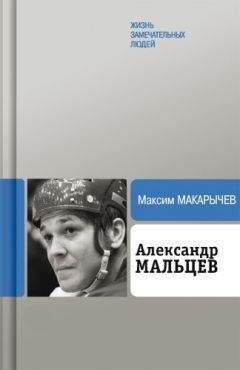А тогда, в Одинцово, мы с Эпштейном пошли в сторону от Дворца спорта.
«Идем, я тебе покажу, где жил до войны», — сказал мне Семёныч. Заинтригованный, я только тут и понял, что Эпштейн поехал со мной и на сборную поглядеть, и на свой старый дом взгляд бросить. Совместить два дела. Тем более что дом этот находился по адресу: Можайское шоссе, 63.
Дом, в котором начинал жизнь Эпштейн и который собирались сносить, стоял впритирку к шоссе. Деревянный, темно–бурого окраса, с наличниками, застекленной верандой. Сколько их таких в России? Сотни тысяч… Ветви деревьев над крышами, палисадники, кусты смородины, сарай. Пока шли, Эпштейн угадывал снесенные уже дома, в которых жили когда–то добрые соседи. Остались от тех жилищ лишь кустарники, да яблони. Да кое–где покосившийся штакетник. «Яблонь у нас здесь вокруг было много, — молвил Эпштейн, открывая дверь в дом. — Вот тут мы и жили».
Предстала моему взору очень скромная обитель из двух комнат, куда вел коридор, своего рода прихожая, замкнутая с одной стороны стенкой печки. В большой комнате какие–то доски, кровать с ветхим матрасом, шкаф с помутневшими стеклами, на которых сквозь осевшую пыль просматривался фигурный рисунок. Внутри я обнаружил журнал с выкройками и альбом с лекалами. «Это Любашины, она ж у меня портняжничала, — пояснил Эпштейн, увидев у меня в руках бумаги покойной жены. — Замечательная была женщина».
Часы на стенке с потемневшим от долгих лет золотистым циферблатом давно уж времени не отсчитывают: некому гирьки подтягивать, пустота в комнатах, как в обезматочевшем улье. А в углу стояла швейная машинка фирмы «Зингер», точнее то, что осталось от машинки некогда знаменитой фирмы. «Отец ведь агентом по продаже зингеровских швейных машин работал. А сюда, в Одинцово, мы перебрались в начале 30‑х годов и отец уже стал директором магазина», — раскручивал Семёныч тихим голосом летопись жизни своего семейства.
Вдаваться в подробности у Эпштейна настроения не было, чувствовалось, что удручает его запущенность, царящая в комнатушках. И былое вставало незримо рядом, теребило душу. Здесь, в Одинцово, корни эпштейновские, здесь жил он с отцом и матерью, скончавшейся во время войны, старшим братом, сестрой. Сюда привел молодую жену, которая подарила ему сына. Здесь ушел из жизни и отец, а сам он отсюда, из Одинцово, выпорхнул мальчишкой в сутолоку московской жизни.
«Ладно, пошли, что ли», — буркнул Николай Семёнович минут через десять, не желая более томить сердце не радующими глаз видениями. И мы вновь ступили на влажную черную почву дворика, где когда–то, «каких–нибудь» 70 лет назад делал подросток Коля Эпштейн зарядку, колол дрова, расчищал дорожки от снега и задумывался о грядущей прекрасной жизни.
Там, не влезая особо в душу тренера с расспросами, сделал я фото Эпштейна на фоне его одинцовского домика. Мне и раньше Николай Семёнович кое–что о своем прошлом рассказывал. А в тот апрельский день дополнились те рассказы созерцанием прежнего быта, прежнего его житья–бытья. И лучше, чем сам Николай Семёнович, о том времени никто не расскажет.
Странная штука — память. У меня уж девятый десяток за середину перевалил, жизнь за кормой большая, сколько событий, лиц, встреч. Конечно, всего не упомнить. Но хранит память события и лица избирательно, а не все подряд. В этом–то за долгие свои годы я убедился сполна. И это, думается, справедливо. Человек не машина. Но перед любым, самым современным компьютером у него есть великое преимущество. У человека есть душа. Переживающая, радующаяся, сострадающая, ликующая. Она–то и откладывает в памяти то, что ей показалось в какой–то момент бытия самым значимым. Задумайся каждый, брось мысленный взгляд назад, к истокам. Получится, что все самое главное в жизни память все–таки сохранила. Особенно из молодости. Когда и сил много, и мозг еще не износился. Компьютер–то, и тот выходит порой из строя.
Из детства своего, кстати, не многое я запомнил. Сейчас вот соображаю, почему так? Думаю, потому, что время было крутое, особых радостей не доставляло. Не было впечатлений, которые могли бы поразить мальчишеское воображение раз и навсегда.
Помню вот как в баню с отцом ходил. Помню речку в нашем Витебске, где я на свет появился. Мой отец Семен Маркович, тоже витебский, мама оттуда же родом. И вот на берегу Западной Двины я сижу. И река передо мной. Вся под солнцем, как чешуя рыбья переливается, лодки плывут, катера, народу много вокруг, пригревает. Словом, жизнь.
Витебск. Какой он был в начале прошлого века? Ну, центр города — еще куда ни шло. А по окраинам домишки одноэтажные, избы. Однако трамвай в городе уже ходил. Запомнились звонки трамвайные. Переливчатые такие. Витебский трамвай, как я уж потом где–то вычитал, был первый в Белоруссии трамвай на электрической тяге и один из первых в России. Родители уехали из Витебска, думается, когда мне было года два с половиной, три. Много позже, когда я уж «Химик» тренировать перестал, зазвучало отовсюду: Витебск, Витебск. Это когда мой родной город стал столицей музыкальных фестивалей.
Ну, казалось, что мне от этого? Я ж в Витебске целую вечность не был. А в душе все же что–то шевельнулось, когда Витебск музыкальным центром стал. Песню я всю жизнь люблю. Хорошую, трогающую за сердце. Вот тебе и родина. Она в человеке живет всю его жизнь, а потом вдруг самым неожиданным образом дает о себе знать. Точнее, ты сам осознаешь в какой–то момент, что в тебе есть и откуда.
Отец, как уже было сказано, работал агентом по рекламе и распространению швейных машинок «Зингер». Не знаю уж, почему, а только вело наше семейство кочевой образ жизни. Может оттого, что требовалось ездить и рекламировать машинки, способствовать сбыту. А может, из–за того нас по свету мотало, что жизнь была нелегкая, надо было искать лучшей доли. Евреи в этом смысле легче на подъем, чем другие нации. Исторически, думаю, так сложилось.
Мотнуло нас в Тамбов. А что такое Тамбов и тамбовщина в середине 20‑х годов? Кто историю читал и проходил, тот сам может себе представить. Только–только крестьянское восстание подавлено было, «антоновщина» то есть. Сказать, что лихо всем тогда приходилось, так это мало сказать.
Следующим этапом наших семейных странствий стала Башкирия. Помню мед тамошний, прекрасный и душистый башкирский мед. Невероятное по тем временам лакомство. Меня отправили в Давлеканово, это километров восемьдесят от Уфы. Понятно, я и подумать не мог тогда, что Башкирия подарит стране много отличных хоккеистов. И хотя в хоккей канадский тогда на Руси еще не играли, но будущие чемпионы уже родились и росли. Сейчас вот «Салават Юлаев» в суперлиге выступает.