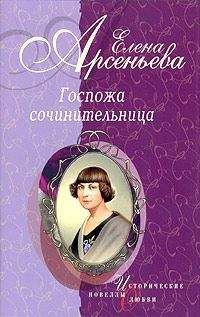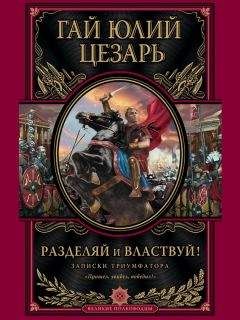Ознакомительная версия.
«Говорят, океан несет утопленников к берегам Южной Америки. Там самое глубокое в мире место и там на двух-трехверстой глубине стоят трупы целыми толпами. Соленая, крепкая вода хорошо их сохраняет, и долгие, долгие годы колышатся матросы, рыбаки, солдаты, враги, друзья, деды и внуки – целая армия. Не принимает, не претворяет чужая стихия детей земли…»
От печали складывались печальные стихи:
К мысу ль радости, к скалам печали ли.
К островам ли сиреневых птиц —
Все равно, где бы мы ни причалили.
Не поднять нам усталых ресниц.
Мимо стекляшек иллюминатора.
Проплывут золотые сады.
Пальмы тропиков, сердце экватора.
Голубые полярные льды…
Но все равно, где бы мы ни причалили.
К островам ли сиреневых птиц.
К мысу ль радости, к скалам печали ли.
Не поднять нам усталых ресниц.
Но однажды Тэффи все же подняла усталые ресницы – и обнаружила, что «океан» принес-таки ее в неведомую страну. Называлась она – Эмиграция, а столицей ее был тот самый Городок, бытописательницей коего и стала Тэффи, прибывшая сюда в 1920 году и поселившаяся в отеле «Виньон» близ церкви Мадлен с обожаемой подругой-гитарой, которая сопровождала ее во все годы странствий, и все в той же котиковой шубке, в которой когда-то уехала из Москвы… чтобы уже не вернуться.
И шубка сия за верность свою заслуживала отдельной оды, которую в ее честь сложит Тэффи спустя десять лет:
«Котиковая шубка – это эпоха женской беженской жизни. У кого не было такой шубки? Ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было жалко, она представляла некоторую ценность и была теплая, – а кто мог сказать, сколько времени продолжится странствие? Котиковую шубку видела я в Киеве и в Одессе, еще новенькую, с ровным, блестящим мехом. Потом… обтертую по краям, с плешью на боку и на локтях. В Константинополе с обмызганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами, и, наконец, в Париже от двадцатого до двадцать второго года. В двадцатом году, протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колен, с воротником и обшлагами из нового меха – чернее и маслянистее заграничной подделки. В двадцать четвертом году шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манто, вокруг шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено! В двадцать пятом году набежавшие на нас своры крашеных кошек съели кроткого ласкового котика. Но и сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской беженской жизни, когда мы в теплушках, на пароходной палубе и в трюме спали, подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду – и укрываясь ею от холода. Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийске, стоя с грудным ребенком под дождем. Чтобы дать мне почувствовать, что она „не кто-нибудь“, она говорила ребенку по-французски с милым русским институтским акцентом:
– Силь ву плэ! Не плёр па! Вуаси лё трамвей, лё трамвей!
На ней была котиковая шубка.
Удивительный зверь этот котик. Он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет.
Артистка Вера Ильинская тонула в котиковой шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на „Грегоре“. Конечно, весь багаж испортился, кроме котиковой шубки. Меховщик, которому она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, котик, как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп.
Милый, ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя женского беженского пути. О тебе можно написать целую поэму. И я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти».
Прибыла Тэффи в Париж не совсем чтобы без средств – кое-какие драгоценности ей удалось увезти. История умалчивает, как ей это удалось: может быть, как неким Булкиным – в чайнике с двойным дном, или как неким Коркиным – в трости, выдолбленной и наполненной бриллиантами. Хочется верить, не так, как Фаничке, которая провезла большущий бриллиант – вы не поверите! – в своем собственном носу. Впрочем, у нее был нос как раз на пятьдесят карат, а у Тэффи – маленький и хорошенький носик, довольно проворно учуявший, по какому ветру надобно держаться.
Да по тому же, что и в России, – по ветру юмора! Жители Городка, конечно, были томимы ностальгией, однако совершенно не желали, чтобы им беспрестанно напоминали об этой болезни, ну а уж если удержаться от воспоминаний было никак невозможно, они хотели плакать, смеясь. С легкой руки Тэффи они задавали себе традиционный русский вопрос: «Что делать?» – по-французски: «Que faire? Ке фер?» Со слезой восклицали на смеси французского с нижегородским, подобно герою ее рассказа, старому генералу, который растерянно озирался на парижской площади: «Все это хорошо… но que faire? Фер-то ке?!» И начинали хохотать…
Смех сквозь слезы, конечно. Но все-таки смех!
Не только рассказы, но даже стихи Тэффи были полны горьковатой иронии:
Не по-настоящему живем мы, а как-то «пока».
И развилась у нас по родине тоска.
Так называемая ностальгия.
Мучают нас воспоминания дорогие.
И каждый по-своему скулит.
Что жизнь его больше не веселит.
Если увериться в этом хотите.
Загляните хотя бы в «The Kitty».
Возьмите кулебяки кусок.
Сядьте в уголок.
Да последите за беженской братией нашей.
Как ест она русский борщ с русской кашей.
Ведь чтобы так – извините – жрать.
Нужно действительно за родину-мать.
Глубоко страдать.
И искать, как спириты с миром загробным.
Общения с нею хоть путем утробным.
Вообще, как это ни забавно, но тема еды волновала Тэффи не только потому, что вели эмигранты не больно-то сытое существование (ее герои и героини частенько жаловались друг другу: «Масло нас съедает. И мясо… Метро нас съедает… Газ нас съедает…»), но и потому, что порою она чувствовала себя какой-то приправой к завтраку, обеду или ужину. Ее беспрестанно приглашали в самые разные дома, и хозяйки, не скрываясь, умилялись:
– За Надеждой Александровной угощеньице никогда не пропадает. Она умеет превратить самый скромный обед в банкет. При ней все вкуснее. И самые скучные, унылые, брюзжащие гости, от которых мухи дохнут, при ней преображаются – становятся веселыми и приятными. Прямая выгода для хозяйки – приглашать Надежду Александровну!
Когда Тэффи передали эти слова, она развела руками:
– Лестно, что и говорить! Чувствую себя «Подарком молодым хозяйкам», молодым и старым. Своего рода «Молоховцом», да и только!
Смейся опять же, паяц… А что тебе еще остается делать? Фер-то ке? Любопытные стихи – в присущем ей бархатно-шелково-патефонно-сапфировом стиле – однажды написала Тэффи на эту тему своей обреченности всех веселить и казаться всем довольной, хоть ты тресни:
Ознакомительная версия.