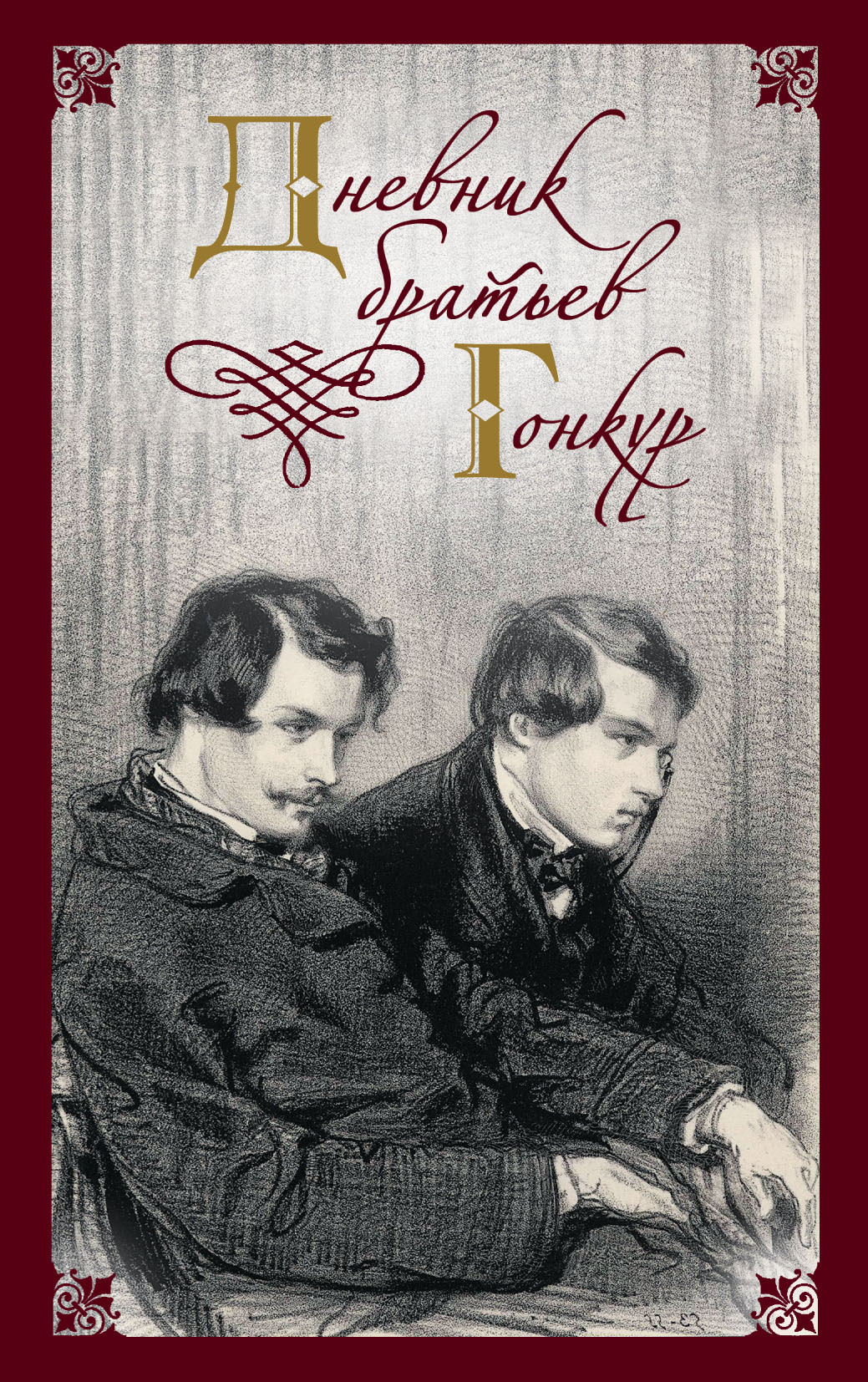глазами картин этого мира; но этим постоянным блеском красок и бесконечной длиной описаний Флобер скорее ошеломляет, чем уводит за собой.
К тому же – слишком красивый синтаксис, синтаксис в духе старых профессоров-флегматиков, синтаксис надгробных речей: ни единого смелого оборота, ни стройного изящества, ни тех нервных неожиданностей, в которых вибрирует свежесть современного стиля… Сравнения, не слившиеся с предложением, а всегда будто приколотые к нему словечком, как деревца с поддельными камелиями, где каждый бутон приколот булавкой к ветке… В реве его фразы вы не слышите гармонии, согласной со сладостью того, что он описывает…
Одним словом, я знаю из современников только одного человека, который говорил бы о древности языком подходящим: Мориса де Герена в его «Кентавре».
12 июля. После того как мы целый день ходили по книгопродавцам, отдавая на комиссию наш роман «Сестра Филомена», я обедал у Шарля Эдмона, который только что провел несколько дней с Гюго в Брюсселе. Поэт, поставивший в день его приезда слово «Конец» под своими «Отверженными», сказал ему: «Данте сделал ад из вымысла, я попытался сделать его из действительности».
Гюго с полным равнодушием переносит изгнание, не признавая отечеством только одну какую-нибудь точку Земли и повторяя: «Отечество, что это такое? Идея! Париж! Так что же? Он мне не нужен. Это улица Риволи, а я ненавижу улицу Риволи!»
29 июля. Тревожное возвращение в Париж, к магниту нашей жизни, к нашей книге, к известиям о наших успехах или неудачах. Что за жизнь – жизнь писателя! Минутами я ее проклинаю и ненавижу! О, эти дни, когда волнения так и сокрушают вас! Эти горы надежд, которые то возвышаются, то обрушиваются! Эта бесконечная череда иллюзий и разочарований! Эти часы тоски, когда ждешь, но не надеешься! Эти минуты страха, как сегодня вечером, когда вопрошаешь о судьбе своей книги на выставках или когда что-то мучительное пронизывает тебя у витрины книгопродавца, где твоей книги нет! Наконец, вся кипящая, нервная работа мысли, которая мечется между надеждой и унынием! Все это вас колотит, болтает, переворачивает, как волны – утопленника.
1 января. Новый год для нас день поминок. Сердце зябнет и тоскует по умершим.
Мы поднимаемся к старой кузине Корнелии, в бедную ее комнатку на пятом этаже. Она принуждена выпроводить нас, так тесно у нее от гостей: дам, учеников, молодых и старых друзей, родственников близких и дальних. У нее не хватает стульев, чтобы их всех усадить, не хватает места, чтобы их долго удерживать. Вот одна из положительных сторон дворянства: не чуждаться бедных. В буржуазных же семействах родство прекращается за пределами известного состояния: выше четвертого этажа дома.
* * *
Шаги нищего, которому вы не подали и который уходит, оставляют в вашей душе умирающий звук.
* * *
Из чего весьма часто создается известность политического деятеля? Из больших ошибок на большом поприще. Погубить большое государство – значит быть великим человеком. Человека судят по тому, что погибает вместе с ним.
10 января. Искусство не едино или, лучше сказать, существует не одно искусство. Японское искусство имеет свою красоту, также как и греческое. В сущности, что такое греческое искусство? Это реализм прекрасного, строгое воспроизведение античной натуры, без тени той идейности, которую ему прописывают наши профессора: ведь ватиканский торс – торс, переваривающий обыкновенную пищу, а не торс, питающийся амброзией, как желал бы вас уверить Винкельман [29]. В красоте греков нет ни мечты, ни фантазии, ни тайны; нет, одним словом, той крупинки опия, которая так возбуждает, так охмеляет, так загадочна для мозга созерцателя.
19 февраля. Я думаю, что с начала мира не было людей, более нас поглощенных произведениями искусства и разума. Там, где нет таковых, нам чего-то не хватает, нам буквально нечем дышать. Но книги, рисунки, гравюры ограничивают наш горизонт. Перелистывать, разглядывать – вот в чем мы проводим жизнь: «Ніc sunt tabernacula nostra» [30]. Ничто не в силах отвлечь нас, оторвать от этого. Нет у нас ни одной из тех страстей, которые отвлекают человека от библиотеки, музея, созерцания, наслаждения мыслью, линией или колоритом. Политического тщеславия мы не знаем, любовь для нас есть не что иное, как «соприкосновение двух кож», по выражению Шамфора.
3 марта. Снег. Мы нанимаем извозчика и везем выпуски нашего «Искусства XVIII века» Теофилю Готье, в Нейи. Улица бедная, застроенная жалкими деревенскими домиками, во дворах возятся куры, лавчонки украшены у входа маленькими метлами из перьев: улица вроде тех, которые пишет Эрвье своей артистически-грязной кистью.
Мы отворяем дверь оштукатуренного дома и входим к «султану эпитетов». Гостиная с тяжелой золоченой венецианской мебелью, обитой красным штофом, старинные картины итальянской школы, над камином – тусклое зеркало, испещренное арабесками, как в турецких кофейнях: убогая роскошь, собранная по случаю, наподобие обстановки старой отставной актрисы, которая накупила себе картин у обанкротившегося итальянского импресарио.
Мы спросили его, не мешаем ли ему.
«Нисколько. Я никогда не работаю дома. Я работаю только в типографии "Монитера". Они печатают по мере того, как я пишу. Запах типографских чернил – вот единственное, что меня побуждает к работе. Да еще закон необходимости… Да, работать я могу только там. Я и романа не мог бы сейчас написать иначе: писал бы по десяти строк и печатали бы тут же.
По корректуре только и можно себя судить. В корректуре вы не видите своей личности, между тем как рукопись – это вы сами, ваша рука, рукопись еще держит вас за какие-то фибры, она не освободилась от вас…
Я всё устраивал себе уголки для работы. И что же? Никогда ничего не выходило. Мне нужно движение вокруг себя. Я работаю успешно лишь среди шума и гама, а когда я запираюсь, чтобы заниматься, то скучаю. Недурно можно работать еще в комнате прислуги, в мансарде, за простым дощатым столом с дешевой бумагой да с горшком в углу, чтобы не выходить по нужде».
Потом Готье перескакивает к критике «Царицы Савской» [31]. Мы признаемся ему в полной нашей немощи, музыкальной глухоте, так как любим разве только военную музыку. «Что же, очень приятно слышать, – улыбается он, – я точно таков же. И вообще предпочитаю музыке молчание. Прожив значительную часть жизни с певицей, я достиг лишь того, что различаю хорошую и плохую музыку, но мне лично все равно. И ведь любопытно, что и все писатели нашего времени таковы! Бальзак ненавидел музыку. Гюго терпеть ее не может!
Сам Ламартин, который продает или арендует