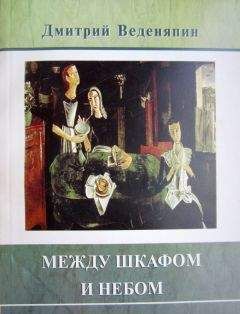Несколько лет назад я привез сюда моего институтского товарища — показать Александровку. Наш дом — на месте (во всяком случае, в тот день был на месте) и даже не очень изменился, а вот там, где раньше волновалась желтеющая нива, теперь раскинулся чудовищный коттеджный поселок — уверен, что в его название входит аббревиатура VIP или слово «Элитный». Каждый коттедж — нечто среднее между районным детским садом, небольшой тюрьмой и сельским дворцом культуры. А и то сказать: чем, собственно, Александровка лучше других мест ближнего Подмосковья?
Но в шестидесятые годы она еще существовала. Можно было идти вдоль поля и смотреть на закат.
Родители работали и приезжали только на выходные. Мама — каждую неделю, папа — почти каждую. Отпуск (обычно август) они проводили с нами, а если и уезжали куда-нибудь, то ненадолго.
Каждый пятничный вечер в июне-июле был особенный. Мы с бабой Аней шли к автобусной остановке встречать маму. Деревня располагалась с правой стороны от шоссе. Слева росли высокие сосны и начинался спуск к Москве-реке. Обычно мы переходили через дорогу и ждали у сосен. Кстати, именно в этом месте стояли сухие пни, в которых водились удивительные, сантиметров пять в длину, жуки с хваткими клешнями и мохнатыми лапками. Они умели летать, расправив полупрозрачные сиреневые крылья. Эти жуки — одно из самых сильных энтомологических впечатлений моего детства.
Автобус приходил в начале седьмого. Застыв, как писал Набоков, в «классической позе детства», то есть на коленях, а точнее, на четвереньках, я вглядывался в воздушный просвет между автобусным днищем и темно-серой полосой асфальта, где, как в перевернутом кукольном театре, начинали мелькать ноги сходящих пассажиров, и безошибочно узнавал мамины — в белых босоножках. Бабушка, смотрящая со своей, более высокой, точки, еще ничего не знала, а я уже знал и кричал: «Мама приехала!» Когда автобус трогался, почти все, кто вышел, спиной к нам двигались по дорожке, ведущей в деревню, и только мама никуда не шла, а стояла и смотрела в нашу сторону. В этом мгновении было что-то бездонное.
Вообще-то мама была человеком четким и внятным и, в отличие от меня, умела быстро и точно откликаться на разные, в том числе непростые жизненные коллизии, но иногда, в ситуациях, казалось бы, пустяковых, внезапно терялась и вела себя по меньшей мере странно. Гуляя однажды по нашему дачному леску, мы вышли на поляну (я выбежал первый), где — о, ужас! — юноша держал на коленях девушку, на которой не было ни рубашки, ни футболки, ни хотя бы лиф… (нет, это слово я не могу написать), в общем, ничего. Синело небо, зеленела листва, белели цветы, которые мы с мамой называли «звездочки», желтели лютики, голубели незабудки.
Я в оцепенении глядел на полуобнаженных любовников (внушительная грудь девушки, понятное дело, произвела на меня особенно сильное впечатление), пока мама не увела меня с зачарованной поляны («Пошли, пошли»). Какое-то время мы молчали, а потом мама неожиданно сказала: «Ты думаешь, это мальчик и девочка? Нет, это два мальчика — просто они так играют».
Зачем она это сказала? Чтобы предотвратить неполезный преждевременный интерес к девочкам, глупые эротические фантазии, онанизм?.. На мой законный вопрос, почему у одного из мальчиков такая необычная грудь, мама отвечала, что иногда так бывает, и даже — вот это было уж совсем лишнее — что это такая болезнь. Поскольку я твердо знал, что мама врать не может, я целый год, если не дольше, время от времени со страхом скашивал глаза на свою грудь — не поразило ли и меня это жуткое заболевание?
На другом берегу Москвы-реки, за полем (неужели кукурузным? кажется, да) была дача отправленного в отставку Н. Хрущева. Где-то неподалеку жил знаменитый авиаконструктор Илюшин. Его сын (Сергей?), шестнадцати-, а может быть, даже восемнадцатилетний парень часто приходил купаться на наш пляж. Этот пляж вызывает у меня устойчивую обонятельную ассоциацию: смесь запаха дешевого табака, давленых помидоров, речной тины и, конечно, мочи в кабинках для переодевания.
Обычно Илюшин приходил не один, а с друзьями. Он мне очень нравился. У него была отличная фигура и мужественное лицо. И модные плавки, каких не было ни у кого, с нарисованными на них западными купюрами: фунтами, долларами и франками. Его приятели и приятельницы мне тоже нравились. Мне ужасно хотелось с ними дружить, но я понимал, что это маловероятно — самому младшему в этой компании было на вид не меньше четырнадцати. А мне — шесть. И на вид тоже.
Вдруг случилось чудо. Сергей подошел ко мне и позвал погулять с ним и его друзьями. Почему — остается для меня загадкой. Может быть, сработали мои заискивающие взгляды, а может быть, потому, что ему нравились мои родители. Так или иначе, мы отправились гулять, а потом зашли к приятелю Сергея, нашему соседу по Александровке. На мой вкус, вечер получился роскошный. Мы разговаривали, причем сидя не на террасе, а в таинственной полутемной комнате в глубине дома. Правда, ко мне обращались преимущественно девушки, но тем не менее. А кроме того, они были красивые. Потом мы играли в карты. Многие курили. Дошло до того, что я тоже попросил сигарету и получил ее.
В общем, когда я вернулся домой, от меня разило табаком. Однако на этот раз мама не растерялась. Спокойным голосом, начисто лишенным ругательных интонаций, она довела до моего сведения, что если я буду курить, то не вырасту. Вырасти мне хотелось гораздо больше, чем курить, — я был доверчивый мальчик.
В Александровке, на нашей дачной террасе, я испытал свое первое, как мне кажется, собственно поэтическое желание: иметь у себя такую вещь, которая была бы абсолютно свободной и в то же время вполне моей. Правда, тогда я думал, что для этого нужны не слова, а пластилин. Я мечтал о профессии скульптора. Но еще сильнее мне хотелось быть клоуном. Услышав о моей любви к цирку, кто-то, в Москве, подарил мне пластмассовую мини-копию Олега Попова, которого, признаться, я никогда не видел. Из клоунов я видел только Енгибарова и был потрясен. Во-первых, его прыжком с зонтиком из-под купола цирка (так начинался его номер) на крохотный кусок брезента, который держали с четырех углов оранжевые униформисты, — наверное, с высоты этот брезент должен был смахивать на почтовую марку. И во-вторых, его поразительным жонглированием: тем, как он внешней стороной стопы по идеальной дуге забрасывал на голову блюдце, на блюдце — чашку, а в чашку — кусочек сахара…
Как-то раз вместе с мамой к нам на дачу приехали несколько человек с ее работы. Один из них, не утруждая себя попыткой поиска чуть менее традиционной темы для разговора, поинтересовался, кем я хочу стать, когда вырасту.