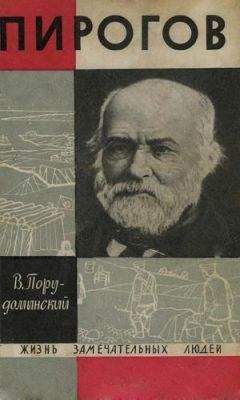Лекции Мухина походили более на свободную беседу. Записывать их было трудно.
Мухин не придерживался строго темы, легко перебрасывал мостки от одного предмета к другому. Размышления прорезали пласты знаний поперек. Чтобы так читать, надо много знать. Мухин как бы мимоходом говорил о вещах важных, щедро сыпал направо, налево золотой песок мыслей.
Он разбирал функции отдельных органов и тут же высказывал идею целостности организма: «Иные считают, будто болезнь поражает отдельную часть тела. Полагаю, что не так. Все части тела человеческого имеют взаимное между собой сообщение».
Он искал место человеческого организма в природе и пришел к той же «лестнице», о которой писал Радищев: «В лестнице существ от червя и насекомого до животного и человека растут способности чувств и движений соразмерно с развитием органов».
Он устанавливал связь человека с окружающим миром и опровергал идеализм натурфилософов: «Говорят иные, будто чувствования наши не достоверны, будто меж ими и наружным миром — пропасть. Никакие чувствования не возникают без надлежащего стимула. Нервная система есть связь, соединяющая организм со всеми предметами, его окружающими. Впечатление сообщается по нервам общему чувствилищу».
Повороты в лекциях бывали иной раз совсем неожиданными. Как-то Мухин замолчал, не окончив рассуждения, помедлил и сказал совсем о другом:
— Народное здравие немыслимо без хороших жилищ, одежды, питания. Врач, ставящий превыше всего пользу отечеству, должен думать и о сих предметах. Ныне в деревнях неурожай. Голод. Вот и взял я себе задачей отыскать заменители хлебных злаков…
Мудров, Мухин, Лодер… Их именами, по словам Пирогова, мог похвалиться Московский университет того времени. Трудами этих ученых, трудами их коллег закладывались основы передовой русской медицины, основы патологической анатомии, физиологии, терапии.
Так почему же в предсмертных записках подводящего жизненные итоги человека не нашел Пирогов достойных слов, чтобы обрисовать нелегкую и обширную деятельность своих учителей?
Почему вспоминал все больше о том, что указывало на их «комизм и отсталость»?
Вспоминал, как Мудров заставил какого-то кутилу петь на занятиях молитву, как вместо лекции повел студентов поздравлять Лодера с анненскою звездою и декламировая при этом нараспев собственные вирши: «Красуйся светлостью звезды твоея, но подожди еще быть звездою на небесех».
Вспоминал, что Мухин читал курс невнятно, перескакивал с одного предмета на другой и только о деторождении никак не мог сообщить слушателям, ибо «скоромная» сия тема ежегодно приходилась на великий пост.
Отмечал профессора Гильдебрандта как искусного и опытного хирурга, но вспоминал тут же, что был Гильдебрандт гнуса» и курил постоянно сигарку, так как страдал хроническим насморком.
Вспоминал, что фармаколог Котельницкий по рассеянности и слабому зрению вместо «кожицы придают клещевинному маслу горький вкус» читал «китайцы придают…» — выходило смешно. Что профессор естественной истории Ловецкий перепутал однажды органы петуха и курицы…
Велик соблазн, зацепившись за эти высказывания Пирогова, представить его учителей в основном косными и невежественными, показать, как «из ничего» вырос великий хирург. Но правда не позволяет ограничиваться пироговскими характеристиками.
Пирогов и сам чувствовал несправедливость своих оценок. Он сослался на снедавшую его болезнь: «…Университетская жизнь в Москве и Дерпте писана мною… в дни страданий. Dies illае, dies irae[2]».
То ли и впрямь ожесточили его страдания?..
То ли так устроена стариковская память, что всего легче всплывают в ней на поверхность занимательные эпизоды и курьезы? Ведь и на самом деле слишком много было курьезов в те далекие дни, когда химию в университете читали, не показывая опытов, физику — не демонстрируя приборов, когда всякий профессор выбирал тему, какую ему заблагорассудится, а рядом с большим ученым взбирался на кафедру тоже именуемый профессором человечек, так и не выучивший русский язык и уже подзабывший свой немецкий, — взбирался и бубнил по-латыни текст из скучной, опухшей от старости книжки.
Сегодняшнее и вчерашнее жило в учителях Пирогова. И сегодняшнее, а подчас и завтрашнее в них наталкивалось на вчерашнее в жизни, в науке, в университетском преподавании.
Лодер препарировал трупы, он зажег в Пирогове любовь к анатомии. Но студент Пирогов изучал анатомию по картинкам и не вскрыл ни одного трупа. Мудров ратовал за практику, не уставал говорить о врачебном опыте. Но студент Пирогов написал всего одну историю болезни единожды виденного больного. Мухину не трудно было в лекциях перескакивать с одного предмета на другой: множество знаний накопил он в больнице и у операционного стола. Но студент Пирогов за годы учения не сделал ни одной операции, даже кровопускания; он только описывал операции в тетради. Прав, наверное, и академик Бурденко, объясняя пироговские жестокие оценки «сожалением старика о даром и непроизводительно потерянном времени в молодости».
И все же так ли уж даром, так ли уж безнадежно было потеряно время?
Тогда почему, едва окончив университет, едва получив возможность перейти от умозрительного постижения наук к практике, Пирогов тотчас показал себя самостоятельным зрелым работником?
Тогда почему талантливый химик и фармаколог, адъюнкт университета Александр Иовский, горячий сторонник эксперимента и противник натурфилософии, выбрал себе в друзья мальчика-студента Пирогова и, задумав издавать серьезный журнал «Вестник естественных наук и медицины», заручился его сотрудничеством?
Тогда почему сам Пирогов, вдоволь посмеявшись над своими учителями, одной фразой весомо оценил в них сегодняшнее и завтрашнее: «Но, несмотря на комизм и отсталость, у меня от пребывания моего в Московском университете вместе с курьезами разного рода остались впечатления, глубоко, на целую жизнь врезавшиеся в душу и давшие ей известное направление на всю жизнь»?
«Направление на всю жизнь» — значит университет был для Пирогова университетом. И не здание, не аудитории, не коридоры дали ему направление, а люди, которые творили и учили в этом здании, в этих аудиториях, и совершали не одни только смешные поступки, и произносили не одни только смешные слова. Эти люди — учителя Пирогова. Они боролись в науке, двигали науку вперед. Чтобы правильно оценить их, мало сопоставить сделанное ими с тем, что создано сегодня. Надо по лестнице годов спуститься во вчера, в их время. Характеристики, которые дал своим учителям Пирогов, даже самые комические, совершенно точны, но далеко не полны. Пирогов смотрел на учителей из своего времени, когда сегодняшнее и завтрашнее в них тоже стало вчерашним.