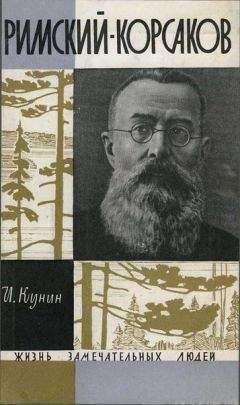— Да говорят вам, не офицер я — солдат! — с досадой ответил я и стал рассматривать данную мне пачку. Это были немецкие пошлые и безвкусные порнографические открытки, рассчитанные, видимо, на гитлеровских вояк. Торопливо вернув их хозяину, я сказал:
— Послушайте, как вам не стыдно! Я кончил Московский Университет. Зачем мне такая дрянь?
— Вот как, — озадаченно ответил хозяин, — а другие господа — советские офицеры, когда я им такое предлагал, были очень довольны.
— Не клевещите на Красную армию. — сдержанно и лицемерно оборвал я хозяина. Он испуганно охнул, но тут же просиял:
— Э, извините, я не сразу понял, с кем имею дело. Я знаю, что вам нужно, господин. Только! — тут он многозначительно приложил палец к губам и поманил меня за собой.
Я прошел за прилавок в заднюю комнату и тут увидел на полках множество книг на русском языке, в основном напечатанных рижским издательством «Даугава»: переводные романы и детективы (особенно много Эдгара Уоллеса), мемуары, памфлеты и многое другое. Я просто впился в них и потом каждую увольнительную проводил время в основном у Юстаса Арвидаса в его «Культуре», причем он неизменно угощал меня чашкой кофе и вкусными булочками. Надеюсь, что его миновала кровавая десница НКВД и невзгоды войны…
Бои с партизанами — носителями руты — учащались со дня на день. Кроме того, убивали солдат и стоявших на часах — в основном у складов с боеприпасами. Стали исчезать солдаты и командиры просто в городе. Увольнительные совсем перестали давать.
Как-то, находясь в комендантском патруле, я попросил напарника подержать мою винтовку, а сам заскочил в пивную. УЖ очень мне нравилось литовское пиво, особенно портер и черное бархатное. Пока я пил свою кружку, заметил, что трое парней за соседним столиком смотрят на меня долгими, пристальными, оценивающими взглядами и тихо переговариваются. Уловил слово «оккупантос». Я сразу почувствовал себя неуютно, понял, что еще немного, и меня здесь могут прикончить. Быстро допил свою кружку, расплатился и выскочил на улицу. Кстати, литовские деньги у меня были, потому что сразу после прибытия в Литву я сменял свои сто рублей на сто лит у какого-то очень довольного этой операцией усача. Признаюсь, я не стал его разочаровывать….
…Но я понимал, что одним своим присутствием с оружием в руках причиняю горе литовцам, и в этом мой великий грех…
…По мере усиления репрессий — арестов, расстрелов, ссылок, выселений и т. д. — росла сумятица среди литовцев, поляков, евреев и местных русских. Множество народа металось по стране в поисках пропавших близких и родных. Большинство из них обращались за справками и помощью к нашим военным комендантам. Это было совершенно бесперспективным занятием. Коменданты действительно осуществляли фактическую власть на местах, но репрессиями ведало совсем другое учреждение, которое никому, в том числе и комендантам, не подчинялось. А очереди на прием в комендатуры все равно продолжали расти. Вот и в длинной унылой комнате — приемной коменданта, у двери кабинета которого я стоял на часах, — находилась очередь, тоже унылая, отчаявшаяся, и все-таки на что-то надеющаяся.
В приемную вошла какая-то молодая женщина с грудным ребенком на руках. Она была босая, в выцветшем сатиновом платье, простоволосая, с замечательно милым, как будто знакомым лицом, обрамленным светлыми спутанными волосами. Ее маленькие, неразбитые, некрестьянские ноги были запылены. На лице застыло выражение безнадежности и тоски. Она, совсем обессиленная, прислонилась к стене в самом конце очереди. Не выдержав, я закричал что было мочи:
— Разводящий!
Так как ожидать можно было чего угодно, то разводящий примчался тут же из караульного помещения, вытаращив глаза и расстегивая на бегу кобуру.
— Стул для этой женщины! — тоном приказа сказал я, указывая на нее рукой. Разводящий громогласно обложил меня матом, но стул все-таки принес. Это было вовремя. Женщина почти упала на стул. Потом, оправившись, расстегнула ворот платья, обнажила маленькую, со светло-коричневым соском, грудь и накормила мирно посапывавшего ребенка. В это время она до боли была похожа на Мадонну. Да я с тех пор только такой себе Мадонну и представляю. Не у Леонардо или Рафаэля, а именно такой.
Часа через два она, наконец, попала в кабинет к коменданту и почти сразу же вышла из него с. каким-то совсем потерянным лицом.
Проходя мимо меня, она, не глядя, сказала только одно слово: «Ачу» и навсегда ушла из этой комнаты, из моей жизни, но не из моей памяти. Много позже, когда у меня уже появились друзья среди литовцев, я узнал, что «ачу» по-литовски значит «спасибо».
А несколько лет спустя я увидел другую молодую женщину — мертвую, с мертвым грудным ребенком на руках. И хотя это было за тысячи верст от Литвы, хотя женщина эта была совсем другой национальности и судьбы, хотя я даже не запомнил черты ее прекрасного лица, в моем сознании и сердце эти две женщины навсегда слились в одно, как две родные сестры. Потом я много раз молил Господа о спасении их душ.
…Поздней осенью наш полк перевели за город, где мы сами построили военное поселение, обтянутое двумя рядами колючей проволоки. Оно состояло из деревянных бараков различных размеров и качества. Правда, существовало одно трехэтажное каменное здание — кажется, бывшая казарма какого-то подразделения литовской армии… Его отдали под дивизионный медсанбат. Над входом в поселение — арка. На ней — красивое полотнище. В центре его — портрет нового наркома обороны Тимошенко, обрамленный еловыми ветками.
Жизнь в этом военном городке была нелегкой. Во всякое время суток нас то и дело выдергивали по тревоге для стычек с литовскими партизанами. Кормили плохо. Помимо всего прочего, за исключением ежедневных четырех кусочков рафинада, большую часть полагающегося нам пайка, разворовывали все, кому не лень. Положение в полку было ужасное. «Вожди» страны хвастливо не раз заявляли, что любого врага мы быстро разобьем на его же территории малой кровью и сокрушительными ударами.
То, что это была пустая и страшная болтовня показала развязанная нашими хозяевами 30 ноября 1939 года война против маленькой, героически защищавшейся Финляндии. С первых же дней победные реляции, печатавшиеся в наших газетах, были лживыми, как и наспех сочиненные и долженствующие исполнятъся в войсках песни о якобы героических подвигах и блистательных победах частей Красной армии — например, песня о некоем комбате Угрюмове и его славном батальоне, первым захватившим приморское курортное местечко Териоки. На стенах многих учреждений — например, Красно-пресненского райкома комсомола в Москве — были развешаны кровожадные зажигательные плакаты в стихах и прозе, призывающие к расправе над финнами, такого типа: «Чтоб победа стала ближе, звеньями, отрядами, догоняй врага на лыжах, бей его проклятого». Финны таких плакатов не развешивали, но, в противоположность нашей пехоте, отлично умели сражаться на лыжах. Много наших солдат и офицеров было убито и «кукушками» финскими снайперами-смертниками, маскировавшимися среди ветвей деревьев. А когда наши войска наткнулись на систему долговременных, хотя и несколько устаревших укреплений, перегораживающих Карельский перешеек, — на так называемую «линию Маннергейма» — советское наступление и вовсе выдохлось. «Первый маршал», который должен был вести нас в победные бои, без толку завалил снег десятками тысяч трупов наших солдат и офицеров. Ворошилова, наконец, сняли (правда оставив его зам. пред. Совнаркома и Председателем Совета обороны). Новый нарком обороны Тимошенко, бывший комбриг Первой Конной армии, тоже завалил десятками тысяч трупов наших солдат и офицеров, но уже Не просто снег, а укрепления «линии Маннергейма», которая была прорвана только в феврале 1940 года. Четыре месяца сражалась Финляндия против Советского Союза, который потерял в этой войне не менее 100 тысяч убитыми (финны — около 20 тысяч). 12 марта был, наконец, подписан мирный договор. Эта бесславная для СССР война не только показала слабость советских вооруженных сил, но и открыла всему миру подлинное лицо «поборников всеобщего и полного разоружения и коллективной безопасности» — наших демагогов, прикрывавших наглую безудержную агрессию. Захваченные у финнов Карельский перешеек до Выборга включительно, еще некоторые небольшие территории и полученный в аренду для военной базы полуостров Ханко были молниеносно возвращены финнами, как только началась советско-германская война. Вот за что мы заплатили столькими жизнями людей моего поколения — тогда молодых, цвета нации.