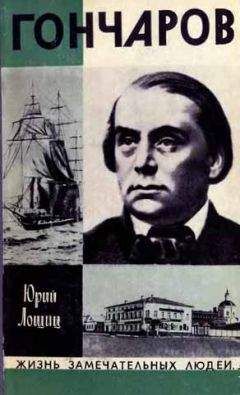Очерк «В университете», написанный Гончаровым в начале 70-х годов, отчасти содержал полемическую установку. Автору хотелось показать, что «республиканский» стиль студенческой жизни, за который так бурно выступает пореформенная молодежь, имел место и в пору его юности, в 30-е годы, с той лишь разницей, что тогда такой стиль не выставлялся в качестве самоценного идеала. Но нам сейчас этот очерк интересен прежде всего заложенным в нем автобиографическим материалом: характеристиками крупнейших «звезд» университетской профессуры, деталями студенческого быта.
После полуказарменной обстановки коммерческого училища студенческая семья действительно выглядела республикой. От остоженского корпуса до здания на Моховой всего-то рукой подать, а здесь, в университете, кажется, и воздух совсем иной. Начать с того, что студенты, кроме казеннокоштных, живут не в общежитии, а снимают комнаты и углы по всему городу. Или с того начать, что им не задают уроков и не спрашивают каждый день выученного. Что нет здесь и в помине никаких надзирателей с отвратительными кондуитными тетрадями. Что никто не заставит студента стоять в углу, не прикажет ему состричь длинные волосы. Что не принудят его маршировать в строю по университетскому двору на потеху проходящей публике. Что после лекций может пойти сам или с таким же, как он, вольным и счастливым товарищем куда глаза глядят. Что не возбраняется ему посещать лекции на других факультетах, если у него есть охота послушать какую-нибудь новую знаменитость. Что, наконец, он может хоть всю ночь не смыкать глаз, посвятив ее приятельской пирушке, чтению нового романа Вальтера Скотта или прогулке по спящему городу.
Хочет — прогуляет лекционные часы, проведет их на лавочке кремлевского сада, откуда удобно рассматривать проходящих мимо девушек и дам; или забредет в кондитерскую, накупит себе пирожных, конфет, сладкой воды, а то и вина закажет и с важным видом вытащит из кармана сигару. Словом, он может распоряжаться своим временем как угодно, никому нет дела до того, как он успевает все выучить к очередным экзаменам, лишь бы отвечал на них толково.
Иногда у Ивана Гончарова складывалось впечатление, что эта их вольница вообще забыта начальством.
«Начальства как будто никакого не было, — вспомнит с улыбкой писатель, — но оно, конечно, было, только мы имели о нем какое-то отвлеченное, умозрительное понятие: знали о нем, можно сказать, по слухам».
С такою же благодушной улыбкой описывает он редчайший и потому так живо запечатлевшийся случай, когда их все же навестил ректор — профессор физики Двигубский. Ректор в этом описании выглядит существом дремуче-захолустным, под стать людям «Летописца». «Он однажды зашел в нашу аудиторию во время лекции, и, кажется, сам удивился своему приходу. Грузный мужчина, небольшого роста, с широкими плечами, на которых плотно сидела большая, точно медвежья голова, он как-то боком, точно нехотя, взглянул на толпу студентов, как будто говоря глазами: «ну, чего тут смотреть? невидаль какая!» — кивнул профессору, кивнул нам в ответ на общий наш поклон и скрылся. Он, кажется, зашел, что называется, для очистки совести: чтоб нельзя было сказать, что он ни разу не был в аудитории».
Здоровым, сытным воздухом неторопливого захолустья веяло и от всего города, в самом центре которого располагался университет. Иван Гончаров, который, почитай, уже девять лет как числился москвичом, только теперь получил возможность разглядеть старую Москву во всех ее достопамятных и трогательных подробностях. Трудно было поверить, что всего двадцать лет назад этот город на всем своем громадном пространстве чадил и потрескивал, как груда выброшенных из печи угольев и головешек. Почти все храмы, общественные здания и частные особняки щеголяют свежей покраской самых разных колеров: бело-розовых и бело-синих, желтых с белым и зеленых с белым. Дома утопают в летней зелени или в осеннем золоте, в снежной голубизне или в душистом дыму белокипенных майских садов.
Студенты часто совершали прогулку по какой-нибудь из знаменитых окрестностей. Особенно любили многоверстный путь в Кузьминки.
Москва боготворила свои древности. Профессор Снегирев, который весьма скучно читал им курс латинской письменности, буквально трепетал, когда разговор вдруг касался какой-нибудь невзрачной московской церквушки.
Тут он знал все: от первого летописного упоминания о ней до того, сколько раз и в какие нашествия она горела, и кто погребен под ее плитами, и от кого получены ценные вклады, и какие именно — напрестольные евангелия, плащаницы, потиры, образа и ризы.
Гончаров, будто величественную сагу, читал в эти годы «Историю государства Российского», писанную его знаменитым земляком, и Москва делалась для него живой иллюстрацией к карамзинским томам. Заходя в Кремль, застывая надолго возле великокняжеских гробниц, оп словно воочию, в отблесках свечей и лампад, узревал события смут и войн, всенародных торжеств и дворцовых злоумышлении.
«Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около: он очнется — перед ним старая стена монастырская, старый образ: он в келье или в тереме. Он выйдет задумчиво из копоти древнего мрака, пока не обвеет его свежий, теплый воздух». Так в последнем своем романе Гончаров опишет впечатления молодого студента от древней Москвы.
А нахлынет — и на несколько месяцев он увлечется иными предметами и событиями: мифологией древних германцев, или библейскими преданиями, или подробностями деяний греков и римлян. И вот аудитория представляется ему собранием горожан, пришедших слушать речь архонта, судьи либо консула. Если оратор выступает по существу, они безмолвно внимают. Если мямлит что-то невразумительное, по рядам прошелестит шумок, ропот неодобрения.
Но подступала и череда экзаменов. У студентов словесного факультета, свидетельствует Гончаров, не было учебников ни по одной из ведущих дисциплин. Поэтому рассчитывать приходилось единственно на память да нв записи, которые они делали во время лекций. Тут-то Иван Гончаров и открыл для себя, какое великое преимущество заключается в постоянном конспектировании лекционных курсов. Записывание с голоса, по следам живой речи исподволь приучало к тому, чтобы сразу же находить в ней главные, опорные мысли, решительно опуская частности, второстепенные детали. Сознание студента в зти минуты и часы работает с удвоенной, утроенной энергией. Он, как пловец, преодолевает беспрерывно катящийся на него поток мыслей, образов, сведений, и нужно не попасться в водовороты риторики, улавливать намеки, скрываемые в недомолвках, паузах.
Но после таких вот заплывов насколько крепче, уверенней, самостоятельней чувствует себя студент. Он не просто покорный слушатель, он сам отчасти становится соавтором лектора. И наконец, особо выделяет Гончаров, какую свободу почувствует он в своей письменной речи!