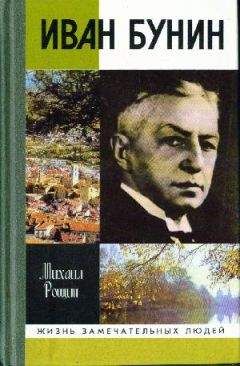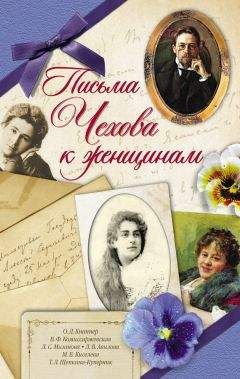«…Вчера еще читал „Вечерние огни“ Фета — в который раз! (Теперь, верно, уже в последний в жизни.) Почти все из рук вон плохо… Многое даже противно — его старческая любовь. То есть, как он ее выражает. Хорошая тема: написать всю красоту и боль такой поздней любви, ее чувств и мыслей при всей гадкой внешности старика, подобного Фету, — губастого, с серо-седой бородой, с запухшими глазами, с большими холодными ушами, с брюшком, в отличном сером костюме (лето), в чудесном белье, — но чувств и мыслей тайных, глубоко ото всех скрытых». (29.VII.40.)
«…Вчера у нас обедали Фондаминские и Демидов. И как всегда при Демидове, разговоры сбивались на Россию, Москву, Тамбовскую губернию. Профессиональные писатели гораздо беднее впечатлениями, чем „бывшие люди“. Сколько знает Демидов, он воспитывался в Нижнем в дворянской гимназии, читал „Московские ведомости“, был предводителем дворянства, председателем Земской управы, членом Думы, правым кадетом. Знал хорошо родовитую богатую Москву. У кого из писателей такое поле наблюдения? У Толстого было меньше. Потом война, революция, Добр, армия, Польша, Париж — да, для такого материала Толстой нужен!»
…Так и чудится, и слышится за словами голос Ивана Алексеевича, виден его пристально-завистливо-горячий взгляд на Демидова, его жадно поднятые вверх и без того изрядные улавливатели — уши!..
«Заговорили о том, что в России дворянство все свое состояние пропило и проело.
— Знаете, сколько бутылок шампанского выпивало губернское дворянское собрание, которое длилось, ну, 2 недели?
— 3500 бутылок! На 40 000 рублей — одна Тамбовская губерния… Но не думайте, что мы всегда так проводили времечко. С февраля мы работали очень много…» (17 мая 31 г.)
«…Вчера Ян сказал: „Ну, прочел „Кроткую“. И теперь ясно понял, почему я не люблю Достоевского. Все прекрасно, тонко, умно, но он рассказчик, гениальный, но рассказчик, а вот Толстой — другое. Вот поехал бы Достоевский в Альпы и стал бы о них рассказывать. Рассказал бы хорошо, а Толстой взял бы какую-нибудь черту, одну, другую — и Альпы выросли бы перед глазами…“» (7 мая 1923 г.)
«…Ян за прогулкой опять восхищался Толстым: „Толстой научил всех писать. Героями Толстого жили. А герои Достоевского дают пищу для умствования. И бездну Толстой чувствовал не меньше Достоевского…“» (22 авг. 26 г.)
«…Читал в эти дни в „Сев. В.“ (1897 г.) „Дневник бр. Гонкуров“. Очень хорошо — кроме поел, лет, когда Эдмон стал писать сущий вздор (напр., о русской литературе) и придавать до наивности большое значение тому перевороту во фр. литературе, который будто он с братом совершил. В одном месте говорит: „Книги никогда не выходят такими, какими задуманы“. Правда, правда.
Следовало бы написать мой нелепейший роман с Кат. Мих. (Лопатиной). Новодевичий монастырь, Ново-Иерусалим. Еще — историю моих стихов и рассказов». (29.VIII.40)
«…Прочитал Лескова „Захудалый род“ — очень скучно, ненужно. В той же книге „Овцебык“ — оч. хорошо. В „В. Евр.“ еще три очерка из „Зап. Степняка“ Эртеля — все очень плохи. Лучше других „Поплешка“, но и тот нудный, на вечную тему всех времен о народной нищете, о мироедах т. п. Впервые я читал этого „Попл.“ полвека тому назад и навсегда запомнил отлично начало этого рассказа… Молочный блеск — особенно хорош». (23.VIII.40.)
«…Вчера приехал Борис Зайцев… очень родной нам, точно из семьи. Сейчас около 10 ч. Сошел пить кофе. К нему вышел Ян. Быстро заговорили о Гоголе, Ян вспомнил свою давнишнюю мысль, что Гоголь сжег не вторую часть „Мертвых душ“, а то, что не вышло из этой второй части. Ему хотелось писать в ином стиле, неорганически, а это у него не вышло. Ему хотелось стать Данте, Шекспиром, Зайцев сказал: — Я Гоголя понимаю, стал недавно понимать, через себя. Ведь знаю, что жизнь не такая, как я изображаю ее, а между тем иначе я не могу, без этих „акварельных тонов“». (26 апреля 34 г.)
«…Бетховен говорил, что достиг мастерства тогда, когда перестал вкладывать в сонату содержание десяти сонат».
«За это время скончался Ходасевич — „растерзан“, „разорван“ желчный пузырь. Два огромных камня. Доктора проглядели. Надо было несколько лет назад сделать операцию. — Жаль его очень. И рано он ушел. Нужен еще. Да и сделать мог еще много…» (5 июля 39 г.)
«…Сегодня говорили о Зола, он перечитал „Nana“. Хвалил Зола за ум, за знание жизни — но ни художества, ни поэзии… Ян находит, что в „Nana“ квинт-эссенция женщины известного типа — только желание, больше ничего, отсутствие жалости и какое-то романтическое стремление к бескорыстному чувству…» (8 июля 39 г.)
«…Приехал к Яну Гроссман (издатель, литературовед), высокий, худой и самоуверенный человек, говорит гладко, несколько певуче. Он явился просить у Яна выборных рассказов из его произведений…
— Из современников только вас, — говорит он с улыбкой, — из умерших: Герцена, Гоголя, Кольцова, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева и других. Разные лица будут делать выборки, например, Островского подаст профессор Варнике, Достоевского — я.
— Значит, в каждой книге будет критическая статья? И это будет относиться и к живым авторам? — спросил Ян.
— Да, но можно сделать по другому принципу, — стал объяснять Гроссман. — В данном случае не будет какого-нибудь исследования, а вы сами сделаете выбор произведений.
— Что такое избранные произведения, — перебил Ян, — это не самые лучшие, а разнообразные. Можно отметить характерные черты в творчестве.
— Да, — согласился Гроссман, — учебные цели…
— Что же я с собой делаю? Я выбираю шесть листов лучших, следовательно, все остальные я считаю плохими?
— Да, к современному автору неудобно прилагать такое заглавие, вы правы, — соглашается Гроссман, — лучше назвать „Избранные страницы“…
Гроссман производит впечатление очень культурного человека, вероятно, с ним иметь дело будет приятно, хотя он человек холодный…» (17/30 ноября 1918 г.)
«…Мой экспромт Шаляпину (в ресторане „Петроград“, против церкви на rue Darn в Париже, после панихиды по Вас. Нем[мировичу]-Данченко)»:
Хорошо ты водку пьешь,
Хорошо поешь и врешь,
Только вот что, rnon ami,
Сделай милость, не хами…
(14.XII.41.)
«…Каждый вечер жутко и странно в 9 часов бьют часы Вестм. абб. в Лондоне — в столовой!
По ночам ветерок не коснется чела,
На балконе свеча не мерцает.
И меж белых гардин темно-синяя мгла
Тихо первой звезды ожидает…
Это стихи молодого Мережковского, очень мне нравившиеся когда-то — мне, мальчику! Боже мой, Боже мой, и его нет, и я старик!..» (15/11.41.Понед.)