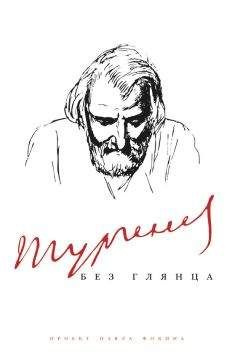Александр Александрович Блок:
В январе 1918-ro года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией (с тем звуком органическим, которого он был выразителем всю жизнь), например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный (вероятно шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, – будь они враги или друзья моей поэмы.
Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую, пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях – природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря – легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! – Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать», оттого в поэме осталась капля политики. Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец, – кто знает! – она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но – не будем сейчас брать на себя решительного суда.
Самуил Миронович Алянский:
Я задал вопрос о том, как была написана поэма «Двенадцать», и Александр Александрович охотно рассказал:
– Поэма писалась довольно быстро. Стояли необыкновенно вьюжные дни. Сначала были написаны отдельные строфы, но не в том порядке, в каком они оказались в окончательной редакции.
Блок тут же достал черновую рукопись. Я заметил, что в ней мало зачеркнутых строк, а на полях написаны варианты.
– Слова «Шоколад Миньон жрала» принадлежат Любови Дмитриевне, – сообщил Блок. – У меня было «Юбкой улицу мела», а юбки теперь носят короткие.
Александр Александрович Блок. Из письма Ю. П. Анненкову. Петроград, 12 августа 1918 г.:
Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли – мне невыразимо близки и дороги, а общее – более чем приемлемо, – т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.
Для меня лично всего бесспорнее – убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно – небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений, – говорили с Вами сейчас, – мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.
Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже отдельные части, тем решительнее должен я спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папироской); 2) с Христом.
1) «Катька» – великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что и наиболее «не ваш». Это – не Катька вовсе: Катька – здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая – здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит изящество всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже – на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он – старый). «Эспри»[21] погрубее и понелепей (может быть, без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже – до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатириконства» (Вам совершенно чуждый).
2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. «Христос с флагом» – это ведь – «и так и не так». Знаете ли Вы (у меня – через всю жизнь), что, когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и главное – за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как – не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).
Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым: снегом и сквозь него – Христом, – это была бы исчерпывающая обложка. Еще так могу сказать.
Теперь еще: у Петьки с ножом хорош кухонный нож в руке; но рот опять старый. А на целое я опять – смотрел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос… Дюрера! (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, постороннее воспоминание).
Самуил Миронович Алянский:
‹Рассказ А. А. Блока о том, как возник образ Христа в поэме «Двенадцать»›
Случалось ли вам ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг? Когда снежные хлопья слепят глаза?
Идешь, едва держась на ногах, и думаешь: как бы тебя не опрокинуло, не смело… Ветер с такой силой раскачивает тяжелые висячие фонари, что кажется – вот-вот они сорвутся и вдребезги разобьются.
А снег вьется все сильней и сильней, заливая снежные столбы. Вьюге некуда деваться в узких улицах, она мечется во все стороны, накапливая силу, чтобы вырваться на простор. Но простора нет. Вьюга крутится, образуя белую пелену, сквозь которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается.
Вдруг в ближайшем переулке мелькнет светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг или сорванный ветром плакат?
Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе.
Прикованный и завороженный, тянешься за этим чудесным пятном, и нет сил оторваться от него.