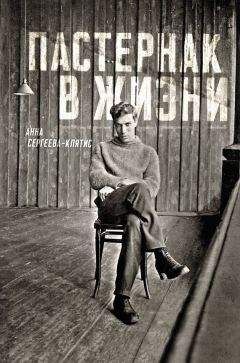В 1827 году болезнь Батюшкова была признана врачами неизлечимой. Оставаться дальше в Зонненштейне не имело никакого смысла, и в начале июля 1828 года Батюшков выехал на родину. Его сопровождал доктор Антон Дитрих, который сыграл в его жизни немаловажную роль. Дитрих наблюдал больного с февраля и был уже хорошо знаком и с его характером, и с особенностями его заболевания. Еще в Зонненштейне доктор вел дневник состояния своего пациента, а впоследствии составил пространную записку о течении болезни Батюшкова. Читая эти жутковатые документы, нужно помнить, что Дитрих увлекался литературой, прекрасно понимал, кого он лечит, ценил в Батюшкове его погибший талант, даже специально учил русский язык, чтобы в подлиннике читать его произведения, перевел на немецкий «Мои пенаты» и некоторые стихотворения Жуковского и Вяземского, с которыми был лично знаком. Мы приведем здесь страницы дневника А. Дитриха, посвященные путешествию в Россию, которое он проделал вместе с Батюшковым в одной карете. Из этих записей ясно, насколько тяжела была болезнь Батюшкова, как трагически он воспринимал мир, как нелегко было людям, окружающим его, не только ухаживать за больным, но и просто находиться рядом. Дитрих фиксирует некоторые моменты болезненной рефлексии Батюшкова, которые словно восстанавливают порвавшуюся связь времен — былые увлечения, пристрастия и интересы Батюшкова воскресают в этих записках. Кроме того, они дают возможность заглянуть во внутренний мир больного, который больше не питался внешними впечатлениями и оставался неизменным на протяжении нескольких десятилетий.
Путешествие из Зонненштейна в Москву[561]
Больной был передан мне 4 июля 1828 года в Зонненштейне в состоянии крайней взволнованности. Уже в течение нескольких дней в своей комнате он ужасно кричал и буйствовал, так что я охотно отложил бы отъезд. Однако это было не в моей власти. Было решено не отказываться от поездки, а сознательно готовить его к предстоящему возвращению в его отечество.
Мы боялись, что он может проявить недоверие и оказать нашим намерениям серьезное сопротивление. С бурной порывистостью воспринял он известие, что карета стоит перед дверьми, готовая к отъезду. Со словами: «Зачем это? Я здесь уже четыре года!» — больной поспешно вскочил со своего места, судорожно бросился на землю перед иконой Иисуса, которую он нарисовал углем на стене своей комнаты, и некоторое время оставался лежать без движения, растянувшись на полу. Потом быстро поднялся, быстро взошел в карету и с громкими проклятиями, не обнаруживая никакой радости, покинул Зонненштейн, хотя именно теперь исполнялось его сокровенное желание.
Первый день путешествия он вел себя очень спокойно, почти не разговаривал, был серьезен, но не угрюм. При этом его, казалось, не занимало изменение его положения. Выражение лица и движения его выдавали более отсутствие мыслей. В Теплице, где мы переночевали, он пожаловался на головную боль и отказался от пищи. На следующее утро завтрак он охотно разделил со мной. Через час пути, после того как мы покинули Теплиц, он внезапно болезненно скривил лицо, повернулся в карете, стал охать и стенать. Мой вопрос оказался для него некстати и остался без ответа. Он потребовал, чтобы его выпустили из кареты. Выйдя, сделал несколько шагов, а затем вытянулся на траве. Сознание постепенно полностью покинуло его, он стал болезненно метаться туда-сюда, руки задрожали — кровь сильнейшим образом бурлила. Быстро и энергично он прижал руки к области сердца, которое казалось схваченным сильным спазмом. При этом он говорил по-русски и в высшей степени пугано. Он то плакал и причитал, то его голос звучал тихо и загадочно, а временами — резко и угрожающе. Казалось, в его воображении пестрейшим образом сменялись разные картины и сцены. Все указывало на то, что надо ожидать приступа буйного помешательства.
Я приложил все старания, чтобы привести его назад в карету и еще до начала предстоящего урагана добраться до ближайшей почтовой станции. Я просил и умолял его — все напрасно. Необычайная раздражительность больного и страх, возникший в самом начале пути, могли помешать в будущем влиять на него. Это соображение удержало меня от того, чтобы немедленно применить силовое воздействие. Однако его экстатическое состояние постепенно переходило в горячечность. Он то медленно шел, то останавливался, то ускорял шаг, как будто хотел совсем сбежать от меня. При этом он громко кричал, называя себя святым и братом императора Франца, и несколько раз пытался растянуться во весь рост на влажной земле. Принесли смирительную рубашку. Сначала он сопротивлялся и ударил меня и моих спутников сжатым кулаком в лицо. Но как только он почувствовал, что мы превосходим его в силе, то сдался и терпеливо позволил поднять себя в карету, где снова стал непрерывно говорить и кричать.
Он считал себя жертвой, которую заковали в кандалы. Временами он выкрикивал: «Развяжите мне руки! Мои страдания ужасны!» Он говорил со святыми и утверждал, что они были также смиренны, как и он, но ни один из них не страдал, как он. Так мимо толпы любопытных мы въехали в Билин, где больной был отведен в гостиницу. Здесь он тоже некоторое время ужасно бушевал, топал ногами и выкрикивал отдельные слова, постоянно повторяя их. То бормоча, то пронзительно крича, отчаянно двигал языком во рту, пытался стать на колени и, молясь, прикоснуться лбом к земле.
Наконец он лег на канапе, где ему между тем была приготовлена удобная постель, и постепенно задремал. После многочасового, часто прерывавшегося сна он проснулся в легком поту, кряхтя и вздыхая, и пожаловался на боль во всех членах. Он был спокоен, но очень изможден, так что сам даже не мог идти — его приходилось вести. Смирительную рубашку снова натянули на него, и поездка продолжилась. Теперь болезнь приняла религиозный оборот. Если он видел на дороге икону или крест, то непременно хотел выйти из кареты и, молясь, пасть перед ними ниц. В карете он тоже постоянно бросался на колени и старался прижать голову глубоко под фартук. Молитвам и крестным знамениям не было конца. Он не вкушал ни одного куска пищи, над которым прежде не сотворил бы знака креста. Некоторое время он играл роль кающегося грешника и все время просил меня во имя Божьей Матери вырвать у него зуб. У людей, с которыми до того он никогда не встречался, больной просил прощения, на случай если когда-то их обидел. Его молитвы состояли только из нескольких не связанных друг с другом слов, которые он быстро повторял и произносил без всякого истинного внутреннего чувства. Например: «Аллилуйя! Теперь я достоин! Кирие Элейсон! Аве, Мария! Христос воскресе! Иисус Христос, Бог!» Посреди ночи он встал с постели и начал, притоптывая, быстро шагать по комнате и рычать какие-то слова. Скорее всего, это тоже была молитва. Крики его изредка успокаивались нашими утешительными уговорами, но в течение одной ночи многократно повторялись снова. Временами, особенно в утренние часы, он находился в состоянии полного экстаза, тогда он оживленно декламировал, высовывая из кареты руки и делая ими витиеватые жесты. Казалось, он видел какие-то образы, которые его завораживали. Он посылал им воздушные поцелуи, протягивал руки и обращался к ним стихами на русском, итальянском или французском языке. Он выбрасывал им из кареты хлеб и другие вещи, которые прежде осенял знаком креста. Временами он жестикулировал молча.