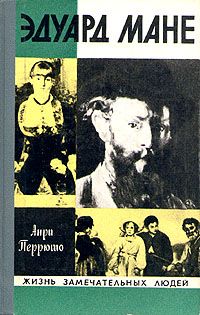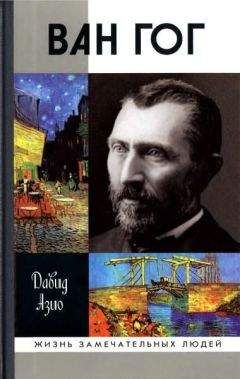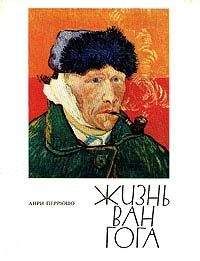Битва будет жаркой. Тем более что ввиду таких тайных замыслов вечные противники живописца, со своей стороны, приложат все силы, чтобы полотна Мане опять были отвергнуты. Когда жюри рассматривает присланные картины, то, как только дело доходит до работ Мане, вновь раздаются возмущенные крики или насмешки. «Рошфор» – это политический вызов; «Пертюизе» – шутовская выходка. Но, к величайшему изумлению этих противников, один из них, да к тому же самый выдающийся, сам президент жюри Кабанель обрывает недовольных. «Господа, – говорит он, показывая на Пертюизе, – среди нас едва ли найдется четыре человека, кто смог бы написать такую голову!» Картины Мане приняты. И все же Кабанель предпочтет не голосовать за награду Мане. Требуемое большинство должно составить 17 голосов. В какой-то момент защитники Мане думают, что проиграли: они набирают только 15 голосов. Но упорствуют, оказывают давление на колеблющихся, на тех, кто, будучи в принципе расположенным к Мане, ставит ему в упрек портрет Рошфора; в конце концов требуемые 17 голосов собраны. Отныне на рамах картин Мане в Салоне будет написано «В. К.» – «вне конкурса».
Газетчики воспримут эту честь – удостоившись таковой лишь в сорок девять лет, Мане делит ее с сотнями и сотнями других художников, награжденных медалями еще в молодости, – как нечто гротескное. «Г-н Мане явно куда выше всех этих посредственных отличий, – пишет один из них... – Вторую медаль за то, что он оказал такое влияние на свое время! Не находите ли вы это чуточку скаредным?»
Но эту дань почета, такую запоздалую и такую ничтожную, сам Мане принимает с детской радостью.
Прихрамывая, он отправляется благодарить одного за другим проголосовавших за него семнадцать членов жюри. И начинает новый холст, который называет «Весна»: на фоне рододендронов портрет актрисы, «бабочки Бульваров»256 Жанны де Марей, излучающей юность, красоту, элегантность; в руке раскрытый зонтик, шляпка, украшенная маргаритками и розами, завязана под подбородком черными лентами.
«Вне конкурса». Сердце Мане напоено солнцем.
Он сам выбирал для своей модели платье и шляпку. Когда он, опираясь на трость, стоял в комнате модистки и ему пододвинули стул, он бурно запротестовал: «Нечего мне с ним делать! Я же не калека». А возвращаясь, сказал сопровождавшему его Прусту: «Представить меня несчастным инвалидом – и это в присутствии прелестных женщин!»
Что такое жизнь? Три дня на берегу моря...
Сэсил Родс
Рододендроны «Весны» увяли. Радость Мане угасла.
Хотя он часто прибегает к возбуждающим средствам, усталость ослабевает только на короткий срок. Внезапно возникающие и буквально пронизывающие его боли нестерпимы. Он не может удерживаться от стонов. Доктор Сиредэ – а к нему присоединился теперь еще и старый врач семьи Мане Маржолэн – предостерегает его от разнородных способов лечения, от злоупотребления наркотиками. Мане оставляет советы без внимания. Но напрасно он консультируется то у одного, то у другого врача – никто не может прописать ему чудодейственного средства. У него нет больше сил тешить себя надеждами.
Болезнь неумолимо прогрессирует; он это знает, и тоска гложет его, и глаза заволакиваются слезами.
Слава, эта вожделенная, с таким трудом завоеванная, наконец-то достигнутая слава – неужели ее дары попадут в бессильные руки? Неужели как раз тогда, когда ему наконец воздадут за труды и лишения, все будет кончено?.. На мостик «Гавра и Гваделупы» набегают пенящиеся волны. Боже мой! Кой черт послал его на эту галеру?
Жить! Жить! Мане сопротивляется. Периоды подавленности сменяются яростью зверя, попавшего в ловушку. Неужели его воля не сможет пересилить болезнь?
Он понимает свое состояние, беспокойство подстрекает его оставить Париж, поискать где-нибудь успокоения. Сменить обстановку, двигаться, сменить привычное место – как будто сменить место означает уйти от самого себя.
Отправимся, говорит Мане, по-прежнему на берега Ла-Манша. Узнавший об этом проекте Сиредэ не соглашается, настаивает на третьем курортном сезоне в Бельвю. О нет, только не Бельвю! Если уж его отговаривают от моря, то он поедет в Женвилье. Сиредэ возражает – пребывание на сырых берегах Сены может только повредить. Куда же поехать? Мане не может больше оставаться в Париже, он еле-еле передвигается.
Один из завсегдатаев его мастерской, директор общества по эксплуатации лесов Марсель Бернстейн, владелец имения в Версале, до небес превозносит достоинства этого тихого городка, оттуда удобное сообщение с Парижем. Превосходное предложение: он будет писать версальский парк; красивых мотивов там предостаточно. Мане взбадривает себя замыслами будущих картин. Он напишет целую серию. Да-да! Вот тогда увидят, что он привезет из Версаля! По рекомендации Бернстейна он снимает меблированную виллу под номером 20 на авеню Вилленев-Л'Этан.
Мане обосновался там в конце июня, как раз тогда, когда во Дворце промышленности происходит вручение наград – он его не дождался. Его представляет там Леон Коэлла. Посвященным известно, что враги Мане замышляют в момент вручения медали публичную демонстрацию недовольства. И действительно, как только произносят имя Мане, раздаются крики и свист, но их тут же заглушает гром аплодисментов. В конце концов «семнадцать» могли попытаться получить для него первую медаль!
Желая немедленно начать осуществлять задуманные планы, Мане дважды или трижды добредает до версальского парка. Он не ошибался – эти очаровательные уголки непременно его вдохновят: вот тот, и этот тоже, еще один, и другой... Как прекрасно организуется все это на полотне! Он тотчас же приступит к серии версальских холстов. Но он слишком себя переоценил и быстро понимает это. Его пылкий энтузиазм затухает. Добраться от виллы до парка – слишком большое испытание для его скованных атаксией ног. Он уверяет, что чувствует себя лучше, однако с каждым днем сокращает протяженность прогулок. Вскоре Мане уже не выходит из окружающего виллу сада, «самого ужасного, какой можно вообразить», – с досадой говорит он, сожалея о благородно-упорядоченном парке, созданном Ленотром.
Усевшись перед мольбертом в домашних туфлях, Мане пытается писать – впрочем, без увлечения. Он делает наброски уголков сада, портрет сына Бернстейна Анри257. Но куда девалась прежняя виртуозность? Опустив руку на муштабель, Мане пишет, уничтожает сделанное, начинает вновь, вдруг охваченный сомнением, ошеломленный непонятной нерешительностью.
В июле 1881 года Малларме просит сделать несколько иллюстраций для переведенной им поэмы Эдгара По. «Вы знаете, – отвечает ему 30-го числа Мане, – как я люблю вместе с Вами отправляться в плавание и выполнять Ваши приказания; но нынче это свыше моих сил. Я не чувствую себя в состоянии сделать как следует то, о чем Вы просите». Однако спустя несколько дней Мане меняет решение. Отказаться? Ну нет! Он сделает то, чего хочет Малларме, но когда «снова одолеет» себя, возвратившись в Париж. Тогда, говорит он, «я постараюсь быть на уровне и поэта, и переводчика; к тому же Вы будете рядом, и это придаст мне вдохновения...»