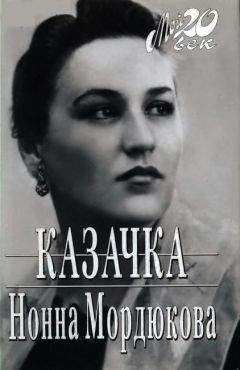А семь раз выпиванный…
Ой, чай малиновый! Хорошо тому, кто родился в капусте… Тихий, добрый хутор. Трудовой народ нажарился за день на солнце, накрутился в поле досыта. Ночь пришла. Угомонились, млеют в постелях. Глаза закрыты, думу думают, «убаюкалку» поджидают. Вот она уже слышна. Знакомый сипатый голос приближается и мурлычет из года в год одно и то же четверостишие. Это блаженный Коля-Портартур. Появился он здесь с незапамятных времен, как и хутор. Люди уважают Колю — боязно брать на себя право оценивать тайны внутреннего мира нормой привычного типа человека. Всех устраивает его простая сущность, в которой только и есть что послушание, беззащитность, трудолюбие и всегдашнее ожидание поозоровать с детишками.
— Коля-я-я! Скажи «Порт-Артур»!
— Па-та-туи! — счастливо выкрикивает он, предварительно поставив ведра с водой на землю.
— Покатай, Коля (на плечах)!
Он выставляет указательный палец и отвечает: «Ни-изь-ля! Ни-изь-ля!» Дескать, дело на безделье менять нельзя.
Наутро хутор как мертвый — все до единого в поле: страда. Пекло, тишина. Мне девять лет. Я посажена мамой встретить самый-пресамый дорогой груз…
«Не пропущу, мамочка! Я тебя люблю, и то, что везут, мне тоже позарез нужно. Я тут, у хаты. Я жду!» Сижу не шелохнусь, позволяю себе только кусачую муху отогнать. Вижу лишь ту часть дороги, что ныряет вниз… Наконец-то с провального места повалила пылюка! Я вскочила, прыгаю. Дядя Ваня с деревянной ногой толкает впереди себя двухколесную повозку, а на ней поперек что-то продолговатое. Будь она неладна, эта пыль, стоит на месте и не дает как следует увидеть обнову. Вижу наконец прилипшую к мокрому телу майку и качающегося от хромоты человека и понимаю: поперек повозки лежит шифоньерка!
— Шифоньерка! — кричу я.
Дядя Ваня заводит повозку во двор и ставит красавицу в тень под яблоню. Обтирает пыль, достает рисунчатый гребешок и надевает наверх. В гребешке выжжен кораблик.
— Ну вот, Петровна попросила… Сама и рисунок составила.
— Мама не составила рисунок! Она срисовала у Кукаречихи в городе!
Дядя Ваня набрал воды ковшиком из кадушки и, припав к ковшу, замер. Высосал весь ковшик, крякнул, сел в тень и стал крутить цигарку. Я вынесла из хаты железную коробочку из-под зубного порошка. На ней негр смеялся большими белыми зубами. Мама любила чистить зубы щеточкой.
— Вот вам деньги. Мама наказала взять сколько надо.
Он достал все деньги из коробочки, потом часть из них взял, а остальные положил на место.
— На, поставь куда следует… На что оно, такое высокое?
Как в городе! Мама сказала: «У нас будет шифоньерка. Как в го-ро-де!»
Отец по ее просьбе поставил обнову углом, как икону, и от нее мама протянула к двери домотканую дорожку. Жизнь стала интереснее. И вставалось утром, и ходилось как-то по-новому: глянешь на шифоньерку — и сердце радуется. Мы стали другие — по хате дух богатства и красоты стал летать. Первые дни я и из дому не хотела выходить, потом привыкла, стала бросать шифоньерку и бегать с детьми на край села.
— Е-е-дут, е-дут!
Мы наперегонки. Это на арбах наши мамы с песнями возвращаются с работы. У каждой в торбе засохшие крошки хлеба. Считалось — от зайчика. Мы верили и уплетали с радостью — как же, от зайчика! В сельпо дети не ходили, потому что деньги нам еще не давали. Конфет ни у кого никогда не было, вместо них стояла патока на прилавке…
И на тебе — попадаем в сельпо! В нем не сразу приморгаешься. Окон нету — лампа керосиновая висит, да двери здоровенные разведены по сторонам. А приглядишься, тут и увидишь: хомуты, сбруи, коромысла, платки, материя, бусы. Поправей — соль, уксус и пряники.
Вдруг в раскрытую настежь дверь заглянуло солнце. Я испугалась, слезы подступили к горлу… Ой, боже ж ты мой! Откуда оно, это чудо? Висит и светится синим-пресиним огнем!.. Это матросочка из такой материи, как у мамы платье, кашемировое, праздничное. Юбочка в крупную складку, кофточка с флотским воротником. Манжеты и воротник окантованы белой и красной тесьмой. По синему полю да по шерсти шелк белый и синий. И главное — белая тесьма с палец шириной и рядом красная, как узкая соломка!.. Тут солнце зашло за двери, шумно стало в сельпо, предметы попрятались, но матросочка светилась синим фосфором, сопротивляясь темноте.
Тут и началась моя никому не известная трагическая жизнь. «Мамочка, были б мы с тобой счастливые люди, если б матросочку купили…» Я стала каждый день захаживать в сельпо, чтоб проверить: не купил ли кто? А может, это как пояснение для людей — учитесь шить?
Сидим ли мы в канаве, купаемся ли в реке — где только нас не носит! — матроска не отпускает мою душу. Залезли как-то на высокую грушу. Жара. Двор пустой. Листья шлепают зеленым глянцем. Одинокая бабка спряталась от жары в хату да и прилегла. Мы — с дерева вниз. Откушали огурчика, увидели печку, на ней чугунок. Подползли по-пластунски, жменями подчерпнули похлебки — не понравилось: сильно рыбная. А «сторож», собака Шарик, вот-вот сдохнет, но раз среди людей, то еще живой. (Это мы таращим глаза, орем, требуем помощи, когда нам плохо, а собаки уходят с глаз долой, пропадают безвозвратно.) Ох, Шарик, Шарик… Кости местами оголились, шерсть вытерлась. Хочет залаять, а получается «пук». Посмотрит в сторону хвоста и вздохнет печально. Большой, нескладный, из последних сил пытается встать, чтоб оправдать роль сторожа. Вынимает из-под себя одну лапу — кость, потом вторую; мордой по земле мажет, стараясь ее приподнять. С великими муками встает на все четыре лапы и хах, хах — тут же падает.
Перед сном жалко стало Шарика, и мама отвлекла меня хорошим, родным голосом. «Эх, не успела заснуть», — посетовала я. Сейчас поставит мои ноги в таз с холодной водой. «Ножки мои, ножки, и кому ж вы только достались?» Я канючу, зеваю, вскрикиваю, когда она ногтем больного места коснется. Падаю, погружаюсь в глубокий сон, а мамочка еще вытирает мои непутевые ноги.
Наступает утро, пахнет молоком, оладьями и зубным порошком.
— Дочка, вставай, поедем в степь. Там начальство из района будет, сделаем маленький концертик. Ты закончишь.
— Ой, мама, мамочка! — вскочила я.
— Шо таке? — напугалась она.
— Мама, я поеду в степь… но, мамочка, сперва в наше сельпо зайдем.
— А чего мы там не видали? Ну, зайдем, все одно мимо.
— Тетя Ася, — кричу я, — открывайте двери!
— Шось горыть?! Чи шо? — отзывается продавщица.
Мы заходим. Матросочка на месте. Вроде туманом взялась, живая…
— Мама, бачишь?
— Бачу, дочка.
Мама услышала от меня просьбу такого рода впервые. Она спокойно оглядела матросочку и попросила продавщицу подать ее.