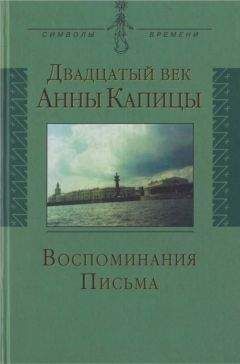Пишу это письмо заранее, боюсь, чтобы профессор не уехал раньше, чем решил, хочу, чтобы письмо было готово…»
Продолжение:
«2 ноября 1945 г.
Сегодня получила твою телеграмму, дорогая моя, о кончине папы. Это известие горестно меня поразило. В эти долгие годы мои мысли всегда были о нем. Твое письмо порадовало меня, что он жив и здоров, и вот болезнь и смерть! Очень благодарю тебя за быстрое извещение, это мне очень дорого. Ты хорошо написала о папе, да, он прожил долгую жизнь, наполненную его любимым научным трудом, обогащая всех. Он так охотно передавал свои знания всем, кто хотел этого. А для меня он остался и лучшим человеком. Мне жаль тебя, что ты лишилась такого отца-друга, и жаль мальчиков, что они потеряли такого деда. Сейчас я вся с вами и всех вас горячо обнимаю и люблю, дорогие мои».
Продолжение:
«12 ноября 1945 г.
…Вот опять пишу тебе, моя дорогая, получено твое большое письмо от 21 августа. <…> В этом письме ты задаешь нам сложный вопрос: хотим ли мы вернуться в Россию. Если ответить одним словом на этот вопрос, то мы отвечаем: да, хотим. Никакие принципиальные вопросы не мешают нам так ответить. Не только последние пять лет войны мы были духовно связаны с советской Россией, но все последние десять лет нас тянуло к ней, хотя она и стала советской Россией. Она для нас была и осталась родиной, и другой родины у нас нет и не будет.
Мы не легко ассимилируемся с чужой страной, лучше сказать — совсем плохо. Прекрасная Франция осталась прекрасной, но чужой страной и не согревает нас.
Итак, ответив на главный вопрос утвердительно, перед нами встают другие, хотя и второстепенные вопросы, но довольно серьезные. Из них возьмем самые простые: когда будет возможен наш переезд, а с этим связано и то, что надо подготовиться к переезду, ликвидировать хозяйство, устроить денежные дела и т. д. А потому решить вопрос о переезде лучше всего с тобой, как ты и пишешь. Торопиться тебе приехать к нам не надо, теперь нет сообщения, не надо рисковать. Значит, мы подождем. <…>
Скажу тебе, что хотелось бы мне провести последние годы около вас. Знаю, что жизнь предстоит суровая. Страна разорена продолжительной и жестокой войной, но я не очень требовательна и пока еще довольно крепка, слава Богу. Из твоего письма я поняла, как много вы пережили за время войны и как дорога вам родина. Я рада за вас. В твоем письме мне многое стало ясно, и я получила из него ответы на мои некоторые нерешенные вопросы о вас, которые я задавала себе. Ведь мы не переписывались пять лет, вот и явились разные вопросы о вашей жизни. Очень хочется увидать внуков, ведь они уже молодые люди и как бы новые Сережа и Андрюша, а не те, которые играли и шалили в Кембридже.
Здесь была франко-русская выставка народов СССР. Я была на ней и видела прекрасные портреты папы и Пети — героев социалистического труда. Видно, что папин портрет снят не так давно, Петин портрет очень хорош, он как живой…»
Продолжение:
«3 декабря 1945 г.
…Письмо еще не отправлено, и я опять пишу. Если ты получишь красную вязаную кофточку, то к ней будет связанный кушачок, это для того, чтобы распустить его и употребить на штопку, когда будет надо. <…> Продовольственный вопрос улучшился, так что мы сыты, и я порядочно прибавила в весе и уже не такая худая, как была. Прочла книгу К. Симонова: „Дни и ночи Сталинграда“[132]. Она очень мне понравилась простотой и правдивостью и какой-то особенной скромностью. Все защитники Сталинграда — герои, все одушевлены одной мыслью — защищать родину, но в книге это изображено так просто, что иначе и быть как будто не может. Мы с большим волнением следили и переживали этот период войны. Думаю о вас, с каким напряжением вы все это переживали…»
В это письмо вложено и другое — от М. И. Сабининой, в котором та подробно описывает, как они провели военные годы:
«…Начало войны нас застало в Ментоне, но мы с мамми решили при первой возможности вернуться к себе, так и вышло — вернулись в декабре на Crespin. Прожили всю зиму. Война все разгоралась, и немцы приближались. Все и всех стали эвакуировать. Мы твердо решили не уезжать, а умирать в своей квартире. Начался буквальный исход, все уезжали на чем могли, уходили пешком из Парижа и запрудили собою все дороги. Много осталось погребенных в дороге, умерших от своих болезней и немецких бомб. Я сшила два удобных мешка, положила туда все, что необходимо, и так держали долгое время на случай, если насильно будут выгонять из Парижа, чтобы, уходя, надеть на спину, но, слава Богу, не понадобилось. Утром я пошла, как обычно, в 7 утра за хлебом и увидала — на стенах наклеены объявления, что Париж сдан и что жителям нечего беспокоиться. Газеты не вышли, и стали жить слухами. Все стало исчезать, доставка продуктов остановилась, и лишь торговки и торговцы на таратайках стали бойко торговать по нормальным ценам. Движения не было в Париже никакого, только метро. Банки, лавки, все почти было пусто и закрыто. Потом, когда немцы окончательно засели и взяли бразды правления, люди, все, кто уцелели, стали возвращаться, магазины открываться, подвоз кое-как стал налаживаться. Выдали всем продовольственные карточки. Никакого отопления не давали три года. Прошел так еще год, деньги стали подходить к концу, у немцев мы работать не хотели. Я как-то говорю шутя: „Дело подходит к лету, хорошо бы куда-нибудь наняться работать в деревню“. <…> А через неделю мы, действительно уехали в деревню работать, и вот как это случилось. Приходит к нам как-то м[ать] Бландина, бывшая Ася [Оболенская], и говорит: „Мне сейчас предложили поехать работать в деревню, но я не могу, тогда меня просили найти двух старушек, чтобы вести хозяйство, к одному профессору, у которого месяц назад умерла жена“. Мы без всякого колебания решили, что это нам посылается как исход из нашего положения свыше, и мы должны принять это предложение.
За первый год войны мы с мамми очень похудели, да и в деревне не сразу отъелись. Настало лето, приехал хозяин со своими друзьями-стариками, исхудавшие, рады были попасть на деревенский харч. Мы очень много работали с мамми и за эти два с половиной месяца очень уставали, проводя дни от 7 утра до 11, а иногда 12 ночи, конечно, не всё в работе. После ужина, например, сидели слушали T.S.F.[133] и разговаривали, переваривали газеты. <…> Проводив „гостей“, в первую же зиму пришлось прекратить отопление из-за отсутствия угля. Отапливали свою комнату дровами. Зимы были очень суровые, я не помню за все годы таких, одну зиму 43 года снег лежал целый месяц сугробами, мороз держался до 17 гр., но мы не очень страдали, ходили дома одетые тепло, в шапочках. <…> Наконец, четвертую зиму страшно было оставаться в холоде, хотя и в Париже не было никакого топлива у других. Но у нас был наш уголь в квартире еще за 40-й год, вот мы и провели зиму в Париже, и к нам все приходили греться…»