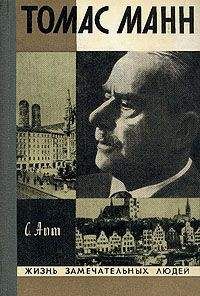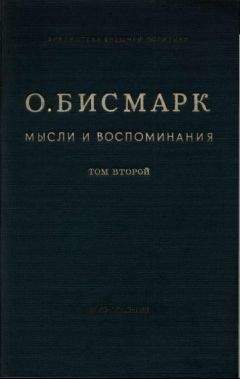«Имя, полное любви и тревоги, — сказал он перед тем, как уйти с трибуны, — которое связывает нас, которое после многолетней разрядки сегодня опять, как в 1914-м и 1918-м, глубоко волнует нас, развязывает нам уста и души — имя это для всех для нас только одно: Германия».
Он не ушел с трибуны, пока не сказал всего, что собирался сказать, вплоть до этой последней фразы, хотя почти всю вторую половину его речи сопровождали нечленораздельный вой и вполне членораздельные угрозы по его адресу. В зале сидело десятка два переодетых в смокинги фашистских штурмовиков, которыми предводительствовал человек в синих очках. Это был писатель Арнольт Броннен, приближенный будущего министра пропаганды Геббельса. Только заблаговременно принятые меры предосторожности, может быть, и спасли в тот вечер Томаса Манна от самоуправства фашистского хулиганья. Дирижер Бруно Вальтер, старый его мюнхенский друг, вывел сошедшего с трибуны оратора через один из задних выходов и затем, через соседний, пустой и неосвещенный зал филармонии на улицу, где уже стояла наготове машина.
На следующий день нацистская «Берлинер цайтунг» писала: «Дело Томаса Манна — печальное дело. Позорное дело. Пропащее дело». А 19 октября он, как и намеревался, читал в Вокальной академии отрывки из «Иосифа», и к концу месяца — месяца, когда произошла его личная встреча с подручными Геббельса, завершил первый том.
Эта краткая хроника осени 1930 года наиболее, нам кажется, наглядно и скупо передает обстановку, в которой он теперь жил и вопреки которой продолжал работать над своей эпопеей. Да, работать он продолжал, и единственным, что всерьез отвлекало его теперь от реализации давних замыслов и даже внушало ему сомнение в ее своевременности, нравственной уместности, были по-прежнему политические события. «Я все еще, — писал он в январе 1931 года Шмелеву, — плету дальше свой библейско-мифологический роман — предприятие весьма своенравное и, может быть, в слишком большой мере эксперимент, чтобы вкладывать в него столько времени и сил». И все-таки ради этого «своенравного предприятия» он тогда же отказался от материально выгодного предложения издателей Фишера и Кнаура написать к столетию со дня смерти Гёте книгу о нем. «Представьте себе, — сообщал он другому корреспонденту, — что главным доводом против гётевского плана и в нынешней обстановке остался «Иосиф». Мне трудно было бы перестать плести его, и я сомневался бы, что поступаю правильно, если бы надолго повернул руль работы и мыслей в другую сторону. К тому же, когда я думаю, что примусь за важную для моей жизни и ответственную работу по заказу и получив авансом высокий гонорар, мне становится иногда жутковато: никогда я так не поступал, мои книги возникали свободно, из необходимости и удовольствия ради, а успех бывал приятно неожиданным дополнением». Примерно в июне 1932 года он закончил второй роман тетралогии «Юный Иосиф» и в августе того же года — мы еще раз обращаемся к эпистолярному наследию этой поры — писал: «Я сильно продвинулся вперед с третьим томом «Иосифа», и, если бы не политика, получилось бы безусловно больше и лучше». Что он имел в виду, когда говорил: «если бы не политика...»? Свой отклик на Кенигсбергские бесчинства, статью «Чего мы должны требовать?», написанную всего за три недели до этого признания, или итоги недавних, опять-таки — они состоялись 31 июля — выборов в рейхстаг, давших национал-социалистам уже 230 депутатских мандатов из общего числа в 608? Если отнести эту горькую констатацию только к августу 1932 года, то поводы «повернуть руль мыслей в другую сторону» видны сразу. Но вернее будет распространить ее на всю ту полосу жизни, которая началась для нашего героя с его последнего выступления в бетховенском зале, ибо «руль его мыслей» поворачивается теперь в сторону политики и без непосредственного, «острого» повода.
Отказавшись от предложения написать книгу о Гёте, он подготовил к гётевскому юбилею два доклада и деятельно участвовал в юбилейных торжествах, проходивших весной 1932 года по всей Германии. В марте он прочитал один доклад о Гёте в Берлине, в Прусской академии искусств, а другой — в Веймаре, в мае произнес речь при открытии гётевского музея во Франкфурте-на-Майне и в мае же выступил в Нюрнберге, в июне, как раз в те дни, когда дописывал второй том «Иосифа», повторил веймарский доклад в большой аудитории Мюнхенского университета. Гёте он посвятил и свои заграничные выступления этой весны — в Берне, Люцерне, Праге.
«Нельзя быть аполитичным, — сказал он в докладе «Гёте как представитель бюргерской эпохи», — можно быть только антиполитичным, то есть консервативным, тогда как дух политики по своему существу гуманитарно-революционный. Именно это имел в виду Рихард Вагнер, заявляя: «Немец консервативен». Однако, как то и случилось с Вагнером и его духовными учениками, немецкая консервативность может ополитизироваться в национализм, по отношению к которому Гёте, этот немецкий гражданин вселенной, проявлял холодность, граничащую с презрением, даже когда национальное было исторически оправдано, как в 1813 году». Не самим отмежеванием нашего героя от консерватизма и аполитичности поразительны эти слова, — ничего нового после уже прослеженной нами идейной эволюции, пережитой автором «Размышлений» в двадцатые годы, тут в общем-то нет, а той смелостью и решительностью, с какой он противопоставил Гёте, которого сейчас чествовала Германия, духовному тонусу, который в Германии сейчас царил. Но прозвучала в этом докладе о Гёте и принципиально новая нотка — новая не только по сравнению с несбывшимися, как уже было ясно, мечтами о «немецкой республике», но и по сравнению с недавним антирадикальным неверием в конечную плодотворность неизбежного, — если буржуазная республика не оправдает «краткосрочного кредита, отпускаемого ей историей», — насильственного, то есть революционного соединения социализма с «культурой». «Новый мир, — мы цитируем заключительный абзац этого доклада, — социальный мир, упорядоченный мир единства и плана, мир, где человечество будет свободно от унизительных, ненужных, оскорбляющих достоинство разума страданий — этот мир придет... ибо должен быть создан или, в худшем случае, введен путем насильственного переворота разумный внешний миропорядок, соответствующей ступени, достигнутой человеческой мыслью...»
Как всегда при обращениях нашего героя к Гёте, прозвучал в этих докладах о нем, особенно во втором — «Путь Гёте как писателя», небольшом психологически-биографическом исследовании, и явно личный мотив, явный намек оратора на себя. Вот две фразы — одна из этого доклада, а другая — из письма, написанные сразу же после выступления с ним в Мюнхенском университете. В первой речь идет о Гёте в эпоху наполеоновских войн, во второй — о чувствах, которые вызвала у Томаса Манна в 1932 году горячая поддержка аудитории. О Гёте: «В 1813 году, когда он почти прослыл человеком без отечества, Варнгаген фон Энзе42 воскликнул: «Гёте — не немецкий патриот? Да в его груди уже сызмальства сосредоточилась вся свобода Германии и стала у нас, к нашему общему, еще недостаточно осознанному благу, образцом, примером, столпом нашего просвещения». О себе — многократно обвиненном в антипатриотизме печатно и устно, о себе — за несколько месяцев до эмиграции, где он потом жил с сознанием, что покинул лишь землю родины, но взял с собой, сосредоточил в себе ее культуру, ее гуманистические традиции: «Люди, множество молодых людей, выказали страстный энтузиазм. Пусть вытворяют с Германией что угодно, — такие, как я, никогда не будут в одиночестве». Возможно ли более убедительное подтверждение злободневно-личного смысла этой ссылки на Варнгагена фон Энзе, чем такая, прямо связанная с текущими политическими событиями реакция докладчика на сочувствие слушателей?