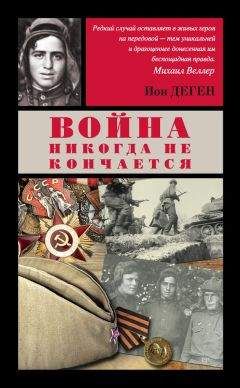Я вот вам сейчас прочитал это стихотворение, и у меня по спине мурашки поползли. Я вспоминаю этот вечер…
– Вы с самого июня 41 отступали с войсками до Кавказа. Я читал, что первую награду вы получили еще в начале войны, в те времена, когда награждали очень скупо. Будучи семнадцатилетним мальчишкой командовали взятием в плен роты альпийских стрелков. Это тоже правда?..
– Да, это на Кавказе было. Осенью 42 года нас, значит, разведку 42-го отдельного дивизиона бронепоездов, усиленную группой пехотинцев из, по-моему, морской бригады то ли 70-й, то ли 60-й, я уже забыл… Короче, всего сорок четыре человека отправили занять перевал и держать его в случае чего, если немцы пойдут. А поскольку я был командиром отделения разведки – то, значит, я и стал командиром вот этого отряда.
Мы поднялись на этот перевал, забыл уже сейчас его название. Это в Кабардино-Балкарской Республике автономной. Сидим мы на этом перевале – холодно, снег. Хоть и сентябрь месяц, но там, наверху, уже была зима. Но самое страшное, самое страшное – это голод, голод. Мы так голодали… трудно передать! Я тогда съел ремешок своего танкошлема. И вот сейчас это единственное упущение, которое я не могу себе простить. Был ведь и второй ремешок, надо было только срезать с него пряжку – и можно было его съесть… а я этого не сделал.
– А как случился этот бой в горах, в Приэльбрусье, в метели, за который вы и получили свою первую медаль «За отвагу»?
– Дело в том, что начался буран страшенный. Я о горах не имел ни малейшего представления. И в тот день, в то утро мы понимаем, что можем сейчас крепко попасть. Против нас стояли «эдельвейсы», замечательные горные стрелки. Тренировались они в Альпах, так что нам против них было делать нечего. У нас-то были замечательные ребята, сибиряки, добровольцы 42-го отдельного дивизиона бронепоездов. Это бывшие танкисты. Танкисты, которые воевали на Хасане и на Халхин-Голе. Они на гражданке были железнодорожники, а железнодорожников в армию не брали. И они добровольно пошли. Вот такие ребята были с нами. Но о горах они имели примерно такое же представление, как и я.
Мы, поскольку, значит, буран жуткий, мы засели укрыться, переждать. Ну, потом он уже вроде стихает. И мы решили открыть огонь по «эдельвейсам». Те, по-видимому, поняли, что имеют дело с идиотами! Потому что нельзя стрелять в горах во время бурана, может быть обвал, лавина. Это же страшное дело!
И они, подняв вверх руки, пришли к нам. Оказывается, они были такими же голодными, как и мы. Но у нас было преимущество. Мы умели быть голодными. А немцы не умели быть голодными. Они умели воевать в горах, в отличие от нас! Но быть голодными они не умели…
Так что никакого героизма я не проявил. – Что же, можно сказать – немцы к вам сами пришли? – Ну конечно, они сдались в плен. – И у вас потом отобрали эту медаль в НКВД и чуть не расстреляли самого?
– Да не в НКВД, в Особом отделе этой самой бригады. Оказывается, я дал по морде человеку, которого бить не следовало. Это был первый секретарь Северо-Осетинского обкома партии. Ну – он меня обидел. Если б он меня просто обматюгал, да все что угодно сказал бы – ладно… Но он сказал: «Спекулируете?!» И мне в этом «спекулируете» показался такой подлый намек, ущемление моего национального достоинства. Ну, и я его ударил.
– Как вы добрались до морды первого секретаря и чем вы спекулировали?!
– Мальчишка, мне было семнадцать лет… ну что я понимал тогда. Дело в том, что бронедивизион стоял в Беслане на экипировке. Чинились бронеплощадки, бронепаровоз, все такое прочее. И мы узнали, что в Беслане есть паточный комбинат. Оттуда, с комбината, пришел с ведром патоки один еще до нас. Ну, мы с моим другом, с моим подчиненным Степаном Лагутиным пошли туда, значит (а я был сластеной), пошли за патокой. Принесли ведро патоки.
А потом, дурни, пошли за вторым ведром. Выходим с ведром патоки – навстречу нам женщина с бутылкой! Да не с бутылкой – с четвертью! Бутыль литра три – ракия, или не знаю там чего – не пришлось прикоснуться к ней. Вот, говорит сама, ребята, давайте обменяемся.
В этот момент появляется какой-то мужчина в полувоенной форме. Женщина сразу удрала. А мы со Степаном стоим. Он: «Спэкулируете?!» И пистолет тащит. Ну, это мне не понравилось, я его ударил. Он упал, расстегнулся плащ, оказалось – на груди его орден Ленина и значок депутата Верховного совета, флажок такой. Ну что, помогли ему подняться, забрали у него пистолет, ТТ, из-за которого пришлось его ударить. Я вынул обойму, вернул ему этот его пистолет. Он тут же вытаскивает вторую обойму: вставил. Мы могли с ним справиться! Но он стал кричать: «Видяшкин! Видяшкин!»
Появился невысокого роста Видяшкин с одним кубиком, младший лейтенант, с автоматом. (А автоматы были редким оружием тогда.) И он, Видяшкин, просил его, значит, по имени-отчеству: да отпустите вы их, это же те ребята, из того бронепоезда, это же герои… – «Взять их! Взять их!».
Нас взяли. Поместили в кузов автомобиля. Повезли в село Брут. Я помню название этого села!.. Вот сейчас вспомнил – я не вспоминал его годы, и вот сейчас я вспомнил. Брут. «И ты, Брут».
Ну, ввели туда, в НКВД. Степан Лагутин мой – двухметрово-ростый богатырь, сорок шестой размер обуви, причем поднимался в этих сапогах на телеграфный столб. Запросто. А офицер – тогда еще не офицер, а командир, энкаведист, – ударил его. Этот удар предназначался мне, но Степан меня прикрыл. Ну, и нас в подвал.
В подвале двадцать один человек: приговоренные к смертной казни по Приказу 227. Ну, и мы двое.
На следующий день десятерых расстреляли. Нам ребята, которые были приговорены, рассказали, что здесь все расстрела ждут. Ну, нельзя их всех ребятами называть, и разного возраста, и потому что некоторые, я считал, что справедливо были осуждены. Например, командир пулеметной роты, бросивший четыре пулемета и удравший. Или политрук, срезавший звездочку со своей гимнастерки, чтобы никто не знал, что он политрук. Так что я считал: их правильно присудили к высшей мере наказания.
Мы просидели в подвале ночь, потом день – вот тот, когда слушали, как расстреливали эти десять человек. Еще одна ночь… И наконец одиннадцатого числа утром на «студебеккере» приехал СМЕРШ, особист нашего дивизиона и забрал нас. Я его спросил, значит, в отношении медали. Он говорит: дурак, скажи спасибо, что тебя еле выцарапали. Пришлось обращаться к самому командующему фронтом. А ты – медаль.
– Ион Лазаревич, в вашей книге сказано и о том, что вы были разведчиком, ходили в разведку в немецкий тыл. Это было в том же 42 году. Много у вас было таких ходок?
– Не много. Рейдов было в сравнительно глубокий тыл два. И как потом оказалось, это были поручения тоже НКВД. Цель была установление и поддержание связи с партизанами, которые были при Кубани и севернее в районе Армавира. Но я тогда о главной цели, какие там дела, не имел представления. Мне давалось задание, я выполнял задание. А что именно, подробности этого задания, они же до меня не доводились…