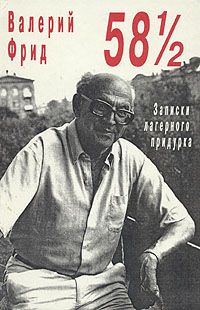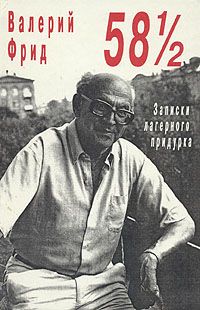Сам я уже в Инте был свидетелем происшествия, назвать которое побегом отважились только чекисты.
Наша колонна возвращалась в зону. Примерно на полпути из строя выскочил пожилой зек и побежал вдоль колонны, выкрикивая какие-то литовские слова. Мы разобрали только «Сталинас, Сталинас…»
— Назад! Назад! — заорали конвоиры. Но литовец не слушал.
Краснопогонников охватила паника: нас водили новобранцы, желторотые первогодки.
— Ложись! Все ложись! — вопили они. Это уже относилось ко всей колонне. Солдаты стали палить в воздух. Но ложиться в жидкую грязь никому не хотелось, да и народ был в большинстве обстрелянный, непугливый.
Когда пули стали жужжать над самыми головами, колонна все равно не легла — но на корточки присела. Стоять остался один Рубинштейн — тот, что побывал на Соловках. Он пытался урезонить конвойных:
— Не стреляйте! Это больной человек! Давайте мы его вернем в строй. Не стреляйте!
Его не слушали. Один из стрелков попытался передернуть затвор винтовки, но руки тряслись и ничего у него не получалось. Солдатик бросил винтовку и побежал к лесу.
Другой конвоир стал стрелять в «беглеца» из автомата. Это происходило совсем близко от меня. Я видел: бежит литовец прямо на солдата, тот выпускает в него одну очередь за другой, казалось бы беднягу должно перерезать пополам — а он, будто заговоренный, все бежит и бежит… Зато шальная пуля попала в ногу кому-то из краснопогонников.
Не добежав до стрелка двух шагов литовец упал. Сразу же протянулись руки, втащили его в строй. Происшествие это заняло не больше двух минут, но в такие моменты время как-то странно растягивается. Все смотрелось как в замедленных кадрах киноленты.
Литовец — ксендз, повредившийся в уме, как оказалось — не был заговорен от пуль. Две попали ему в ногу, не задев, по счастью, кость. Товарищи дотащили его до вахты. Там его первым делом избили надзиратели, затем погнали на перевязку. А вечером в столовой Бородулин толканул речь:
— Тут некоторые, понимаешь, психовать решили, задумали бежать… Не выйдет! Будем судить по всей строгости советского закона!
И действительно судили. Несчастному сумасшедшему добавили срок и увезли от нас — скорей всего, в психушку, было такое специальное отделение в Сангородке.
Наверно, если бы в тот день нас вел старый, не минлаговский конвой, трагедии не случилось бы. С теми было — особенно у блатных — какое-то взаимопонимание, Даже шутки были общие: «Ваше дело держать, надо дело бежать», «Моя твоя не понимай, твоя беги, моя стреляй». Но все это осталось в прошлой жизни. А с этими новыми — одно расстройство.
Помню, меня с соседом по шеренге рябым Николой Зайченко конвоир выдернул из строя за «разговоры в пути следования». Отправил колонну вперед и стал изгаляться:
— На корточки! Марш вперед гусиным шагом!
Имелся в виду не прусский парадный шаг, а ходьба в положении на корточках. Я сделал шаг — трудно, а главное очень уж унизительно.
— Вперед! — краснопогонник передернул затвор винтовки. — Кому говорят?!
Зайченко неуклюже шагнул вперед, а меня стыд и злоба заставили заставили выпрямиться:
— Не пойду. Стреляй, если имеешь право.
Он еще раз лязгнул затвором. Право он имел: кругом тундра, нас двое, а он один. Если кто спросит — «за неподчинение законным требованиям конвоя». Да никто бы и не спросил… Но видно, не такой уж он был зверюгой, чтобы для забавы пристрелить зека. Он постоял, помолчал, потом скомандовал:
— Догоняй бегом!
И мы припустились рысью догонять колонну…
Чувствую, что пора перейти к более приятным воспоминаниям.
После первого опыта — конкурса на лучший рассказ — в Юлике проснулась тяга к писанию — из нас двоих он один обладал тем, что называют творческой энергией. «К писанию» не надо понимать буквально. Лучше сказать: тяга к сочинительству. Писать в тех условиях было сложно, а хранить написанное — опасно.
Году в 64-м, в Норвегии, мы познакомились с Оддом Нансеном, сыном знаменитого Фритьофа. Оказалось, товарищ по несчастью: во время войны был интернирован и сидел у немцев в лагере. Нансен подарил нам свою книгу «Day after day» — «День за днем» — написанную, как он с гордостью объяснил, в лагере на туалетной бумаге.
В наших лагерях туалетной бумаги не было — как и многого другого. Поэтому Юлик стал сочинять стихи: их легче запомнить. На работе можно было записать на клочках бумаги — скажем, на испорченных бланках — запомнить и выбросить: шмоны бывали и в зоне и в конторе. (Во время очередного обыска мы спрятали в печку, присыпав золой, рукопись «Лучшего из них». А в золе оказались тлеющие угольки, и рассказ сгорел. Вопреки уверениям Булгакова, рукописи горят: могут погореть и их авторы. Правда, наш сгоревший рассказ возродился из пепла, как птичка Феникс — но об этом разговор впереди.)
Юлик начал даже сочинять пьесу в стихах — «Два виконта». Стихи, по-моему, были вполне приличные:
Встает заря. Под небом алым
Раскинулась земная ширь,
И я дежурю, как бывало,
У входа в женский монастырь…
Это из монолога Дон Жуана. Но скоро оба виконта наскучили автору и он приступил к литературному обозрению.
Для затравки обругал толстые журналы:
За «Новый мир» и за чужое «Знамя»
Мы от стыда горим на этот раз —
За алый стяг, который красен нами,
За алый стяг, краснеюший за вас!..
(Чужих стихов присваивать не стану:
Я только рабски следовал Ростану).
Точнее, Вл. Соловьеву — это его перевод «Сирано» перефразировал Юлик. Сочинялось «Обозрение» в самый разгар травли космополитов и борьбы за российский приоритет в науке и технике. Самозванцами объявлены были братья Райт, Маркони, Эдисон — у нас свои имелись: Попов, Яблочков и Можайский с его так и не научившейся летать «летуньей». Доходило до смешного: французскую булку велено было переименовать в городскую, английскую булавку — не помню, в какую. А в горном деле нерусский «штрек» перекрестили в «продольную», «гезенк» в «вертикал» (более русского слова не нашлось). Памятью об этой дурацкой кампании осталась только шутка «Россия — родина слонов». Но тогда…
Сомнительный вопрос приоритета
Муссировался сотнями газет;
Средь них — «Литературная газета».
Я не всегда беру ее в клозет:
Зловонная ее передовица
Для задницы приличной не годится.
Газеты этой надо сторониться:
В ней свежей кровью каждый лист полит.
Глядите: вот подвал на полстраницы
И в нем — растерзанный космополит.
Пройдет еще неделя, и едва ли
Он не окажется в ином подвале…
Я не вытерпел, подключился к «творческому процессу». Так было всю жизнь: в нашей спарке Дунский ведущий, Фрид ведомый.