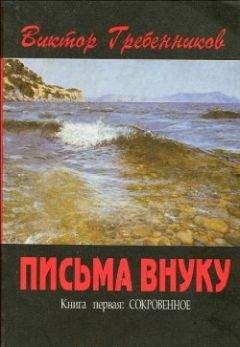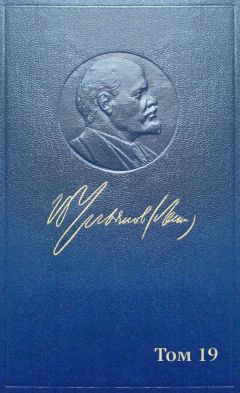III. Если б не сорокоградусный мороз на дворе, я бы удрал отсюда куда глаза глядят, но тут, в жарко натопленном жилище, пришлось затаиться и терпеть. Наконец хозяин утихомирился, был женою покормлен; они потушили свет, и полезли на лежанку своей большущей печи, тут же приступив, как я и предположил и чего боялся — не дадут спать! — к совокуплению. Хозяйкины слова «Тихо, услышит!», вызывали только поносную брань мужа в мой несчастный адрес, и мне пришлось выслушивать всё это их печное плотское действо, с тяжёлым хриплым его дыханием, движением тел и другими мерзкими звуками. Это их действо затянулось из-за хмельного состояния хозяина на долгое время, во много раз превышающее время нормального плотского соития. Жена несколько раз шёпотом умоляла его ускорить или прекратить это занятие: ей, придавленной грузным его телом, эта затянувшаяся потная его работа доставляла уже не приятность, а тягость. По окончании сего акта, а это была уже глухая ночь, прошло некое время, и я, наконец, начал было засыпать, как вскобенившемуся хозяину приспичило, чёрт бы его побрал, ещё раз полезть к жене, притом он требовал в весьма непристойных, но, судя по разговору, уже для неё не новых, выражениях, чтобы она повернулась вверх спиною, встала на колени и локти, а он ослино действовал бы сзади. Женщина долго не соглашалась, громко шепча ему, что устала и измучилась, и что так совокупляться всё же очень нехорошо, не по-людски, и боялась, что «он проснётся» — то есть я; последнее приводило хозяина в величайшее пьяное раздражение, и я уж стал подумывать о путях и способах быстрого бегства на случай, если он из-за своих плотских ослиных неудач взбесится и кинется на меня. Но тут она, бедняга, уступила, приняла требуемую им позу, и он, у которого от всего этого начал наступать упадок сил, долго не мог соединиться с нею в сказанной извращённой жеребячьей позе; но потом, похоже, всё же соединился, ибо она, всхлипывая, заплакала, пока этот скотина муж, хрипя и даже рыча, производил, кобенясь, гнусную свою работу, постоянно прерывающуюся от разъединения гениталий, отчего он матерился, пыхтел, вправляя сказанные гениталии рукою, а она плакала уже навзрыд, но терпела его ослиное скотство, о коем мне совестно писать, но вот приходится, именно потому, что я категорически против и пьянства, и скотских унижений женщин даже родными мужьями, не говоря уже о всякой подзаборщине.
IV. Как только хозяин, пресытившись таким вот премерзким образом, заснул и захрапел — а это было уже часов пять утра — я быстренько оделся, сказал хозяйке, что ухожу, и давай бог ноги в омскую морознейшую темень. Трамваи ещё не ходили; было темно, в небе мерцали яркие звёзды, из труб к ним тянулись вертикально медленные морозные дымы, и мне пришлось в этой дикой предутренней стуже топать в центр города за несколько километров пешком, весьма быстро, что было очень тяжко, ибо в этом сильнейшем морозе отмерзали ноги, щёки и нос; уже светало, когда я почти добежал до этой проклятой поликлиники с рентгенкабинетом. Просидев в огромной очереди весь день, я, голодный и замёрзший, убедился в том, что очередь почти не движется, ибо медики постоянно приводят на рентген каких-то других людишек, иногда по нескольку человек. Ехать обратно в тот скотский домишко на 4-й Северной я уже, понятное дело, не мог, да и меня наверное эти туда больше бы и не пустили, а ночевать в Омске тогда мне было решительно негде. Так что я, невыспавшийся, измождённый, промёрзший и голодный, решил так: плевать на эти рентгены и на всё прочее, не нужна мне больше военкоматская вонючая нестроевая, дававшая возможность зачисления меня «в запас» и прочие их поблажки; попрошусь лучше на фронт, где погибну — туда мне, бедному, и дорога. Как и следовало ожидать, исилькульский военком наорал на меня, выкрикивая разные поносные слова, но на фронт не послал; вскоре заработал и местный рентгенкабинет, где обнаружили несколько туберкулёзных очагов по всему правому моему лёгкому, а в левом — целую их кучку, в верхушке лёгкого. А как и где меня навсегда покинула эта гнусная болезнь — расскажу как-нибудь после.
V. Войска же наши тем временем, доблестно круша врага, подошли к Берлину, и на устах у всех было имя величайшего из полководцев маршала Жукова, который взял-таки это фашистское проклятое логово, в коем кончил свою сатанинскую жизнь ублюдок Адольф Гитлер, — и наши попёрли немца дальше. Но тут запротестовали хитрюги-союзнички — американцы с англичанами и прочими, и нашим пришлось остановиться, отдав им, запоздавшим открывателям второго фронта, без коего, говорят, Жуков вполне обошёлся бы; к слову сказать, тогда бы многое в мире происходило бы иным образом, и наша великая, могучая и прекрасная страна, возможно, не была бы ввергнута в нынешнюю нищету, унижение и развал. И вот однажды утром, совсем ранним, вскоре после первомайских праздников, на бреющем полёте над нашим Исилькулем — трескучий У-2, и тёмная перчатка лётчика, в кожаном шлеме и очках, кидает за борт кипы листовок (и когда их только успели напечатать в типографии местной газетки «Социалистическое строительство»!). Победа! Долгожданная, вначале, почти невероятная, но пришедная-таки к нам, ко мне, ко всем. А на пустыре-стадионе — стрельба: салютуют кто чем может — берданками, самопалами; вдруг забухало ещё громче — это на поляну притащили из военкомата учебное ПТР — противотанковое ружьё, длиннейшую такую пушечку, приставляемую в окопе к плечу. Победа!
VI. А потом пошла превеликая наивеселейшая пьянка, никем не пресекаемая, и в хрустящих ото льда майских лужах, и в незамёрзшей ещё со дня грязи, валялись перепившие исилькульцы, молодые и старые, безрукие и безногие; и многие дни ещё длилось это несказанное веселье, потому как трудно было поверить, что такой мощный и могучий враг сломлен, что нашей любимой, обильно политой кровью огромной державе теперь никто не угрожает, и что вот-вот выйдет приказ о демобилизации и возвращении домой тех, кто в этой превеликой мясорубке уцелел. Я тоже радовался вместе со всеми, а может даже и больше всех, потому что передо мною, как я тогда твёрдо был уверен, открывается широкий и светлый путь в Науку — к Солнцу, звёздам, к тайнам и загадкам такой огромной и прекрасной Вселенной. Через некоторое время, когда разрешат проезд в другие города, я укачу, прихватив отца, в Таджикистан работать в астрономической обсерватории по направлению Москвы; но сказанный период будет, увы, недолгим, потому что всё моё неожиданно пойдет в тар-тарары, к чёртовой матери; и вскоре после того у меня случится суровый и страшный Урал, где мы с отцом превратимся в нищих бездомных бродяг, он угодит в больницу, а я — в тюрьму, в казематах которой просижу, униженный до последней степени и едва живой, полгода; после чего меня, двадцатилетнего доходягу, осудят на двадцать же лет, к повезут этапом по уральским «исправительным» лагерям со всеми их зверскими ужасами. Совершеннейшим чудом я уцелею и буду как бы вновь рождённым на свет, чудесный и прекрасный, что случится теплейшим солнечным летом пятьдесят третьего. Обо всём этом и о многом другом я надеюсь рассказать в следующей книге; ну а пока позволь, дорогой внук, и вы, остальные читатели, проститься и пожелать вам всем всяческого благополучия, добра, великой дружбы, чистой любви, ясного неба, и доброго-предоброго здоровья, не омрачённого ни хворями, ни тюрьмами, ни пьянками, ни каким иным злом и скотством. И ещё пожелаю всем побольше работы, интересной, творческой, свободной, вдохновенной — именно она, Работа, и есть высшее счастье человека, его Судьба и Предназначение, даже если на пути встанут самые непреодолимые трудности. Насчёт следующей своей книги: я ещё не знаю, вернусь ли в ней к своему «доброму старому» гребенниковскому языку, или же буду изъясняться вот на таком, под маньеристскую старину, трудноватом для чтения, может быть почти графоманском наречии — но дающем полную свободу изложения, как при обычном устном разговоре, и, что очень существенно, такой способ не требует никаких поправок черновика, подчисток, выглаживания написанного лощилом, дабы угодить не в меру взыскательным или придирчивым редакторишкам, что затягивает работы над книгами невероятно; а время для меня — крайне важная стихия из-за моего пресквернейшего здоровья и более чем пожилого возраста; эх, успеть бы и её написать!