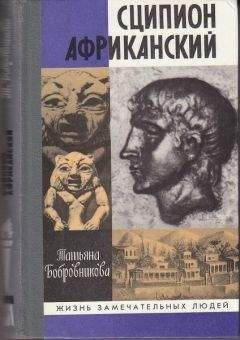— Кажется, я не умею убедить тебя. Полагаю, однако, моя Апега убедит тебя».
Это было имя жены Набиса. Дело в том, что тиран «велел изготовить следующую машину, если только позволительно называть машиной такой снаряд. Это была роскошно одетая фигура женщины, лицом замечательно похожая на жену Набиса… Чуть только он произносил эти слова, как являлось упомянутое изображение. Взяв „жену“ за руку, Набис поднимал ее с кресла, и „жена“ заключала непокорного в свои объятия, крепко прижимая к своей груди. Плечи и руки этой женщины так же, как и грудь, были усеяны железными гвоздями, которые прикрывались платьем… Так Набис погубил многих, отказывавших ему в деньгах» (Polyb., XIII, 7).{71}
Конечно, действия Набиса были нетерпимы. Ахейцы, с которыми сейчас более всего сблизился военачальник римлян, ненавидели спартанского тирана всеми силами своей души. Уничтожить его было их самой заветной мечтой. И на это было две причины: первая — явная, открытая, о которой они говорили и твердили повсюду, и вторая — тайная, скрытая, в которой они, быть может, не решались признаться даже самим себе. Первая — это страшные злодеяния, творимые Набисом. Вторая же, скрытая, заключалась в том, что каждый пелопоннесец с молоком матери всосал глубокую ненависть к Спарте. Некогда этот великий город поработил весь полуостров и обращался с жителями с варварской жестокостью. Без дрожи никто в Пелопоннесе не мог вспомнить о владычестве Спарты. И вот теперь пришло время расплаты. Поработить, сокрушить, стереть с лица земли эту ненавистную Спарту — вот какова была заветная мечта ахейцев. И тут-то им мешал Набис. Ибо, несмотря на все то зло, какое он причинил Лакедемону, нельзя отрицать, что он создал сильнейшую армию, с которой ахейцы тягаться не могли. Все попытки победить тирана на поле боя кончались ничем, надеяться же на то, что римляне будут воевать со Спартой, Аристен, стратег союза, не смел.
А между тем Тит решил положить конец произволу Набиса. Но, как всегда, у него была еще другая, задняя мысль. Вот в чем она заключалась. После победы над Филиппом у Рима появился новый могущественный враг, сирийский царь Антиох Великий. Он грозил обрушиться на Грецию.[136] А этоляне из ненависти к Титу готовы были вступить с ним в союз. При таких условиях вывести гарнизоны из Греции означало отдать эту разоренную и разобщенную страну в добычу Антиоху и этолянам. Следовательно, под любым предлогом надо было пока оставить гарнизоны в Элладе. Но, с другой стороны, сделать это было невозможно, ибо сам Тит торжественно обещал на Истмийских играх убрать солдат из греческих городов. О том, чтобы попробовать что-нибудь объяснить, при создавшихся обстоятельствах нечего было и думать. Последовал бы взрыв возмущения, разговоры о смене господ, о колодках и шейных петлях, ядовитые и крикливые насмешки этолян, а всего этого Тит уже вдоволь наслушался и вовсе не желал повторения. Положение казалось безнадежным. Но изворотливый ум Фламинина и тут нашел выход.
Греки ни за что не хотят, чтобы римские гарнизоны оставались у них еще хотя бы один день? Прекрасно. Но есть способ сделать так, чтобы они на коленях умоляли об этом. Надо предложить им войну с Набисом. Они, конечно, за это ухватятся. И Тит со всем войском, может быть, еще на год задержится в Греции. А за год, быть может, все разрешится. Тит убедил сенат в своей правоте. Получив наконец от отцов письмо с поручением воевать против Набиса, он созвал союзников на совет. Но Тит не был бы Титом, если бы просто вздумал объявить о предстоящей войне. Вместо того он сказал с безразличным видом, что кончил все дела в Элладе. Но, может быть, у эллинов будут еще просьбы к нему? При этих словах сердце Аристена, конечно, забилось. Не сказать ли об Аргосе?.. И вдруг, словно прочтя его мысль, Тит опять заговорил:
— Желаете ли вы оставить во власти Набиса Аргос?.. Этот вопрос интересует только вас. Римлян он, понятно, нисколько не касается. Если вас это не трогает, то мы и подавно отнесемся к этому спокойно и хладнокровно. Итак, я вас спрашиваю.
Ахейцы ушам не поверили от восторга. Но прежде, чем кто-нибудь из них успел открыть рот, вскочили этоляне, которые теперь язвили Тита так же, как некогда Филиппа. Они заявили, что сами избавят Элладу от Набиса, пусть только Тит убирается восвояси. Это вывело ахейцев из последних границ человеческого терпения. Аристен завопил, воздев руки к небу:
— Да не допустят всеблагие боги, покровители Аргоса… чтобы этот город лежал как награда между спартанским тираном и этолийскими разбойниками! Да этот город будет захвачен вами в еще более жалком виде, чем тираном! Тит Квинктий, море не защищает нас сейчас от этих разбойников! Что же будет с нами, если они устроят крепость посреди Пелопоннеса! У них только эллинский язык и человеческий образ, нравы же и обычаи свирепее, чем у любого из варваров, они хуже диких зверей!
И он умолял Тита отнять город у Набиса и так устроить дела в Греции, чтобы защитить ахейцев и от тирана, и от этолян. Тут все повскакали с мест и напали на этолян. Тит величественно и холодно сказал, что дал бы этолянам подобающий ответ, но все так озлоблены против них, что он считает своим долгом не разжигать страсти, а успокаивать их. Поэтому он возвращается к исходному вопросу и спрашивает, что решили эллины об Аргосе. Все дружно воскликнули, что решили воевать (Liv., XXXIV, 22–24).
После этого союзники стали обсуждать, где начать военные действия. Греки считали, что воевать надо под Аргосом, Тит как истинный ученик Сципиона объявил, что идти нужно прямо на Спарту. Этот грозный некогда город до сих пор внушал пелопоннесцам ужас, и не без внутренней дрожи согласились они идти туда за Титом.
В Аргосе вспыхнуло восстание, в самой Спарте было неспокойно. И все же тиран решился воевать. Но, когда римляне захватили приморские города, оплот Набиса, и подступили к самым стенам Лакедемона, Набис дрогнул и послал послов с просьбой о мире (Liv., XXXIV, 29–30). Тит согласился дать Набису аудиенцию. Он вышел к тирану, окруженный представителями греческих общин. Набис сильно волновался и приготовил очень длинную и патетическую речь. Время от времени он останавливался и вспоминал, что спартанцу надлежит быть кратким. Он заявил прежде всего, что вовсе не захватывал Аргоса, а освободил его исключительно по просьбе самих жителей. Что же касается того, что его называют свирепым тираном, то вся его вина в том, что он освобождает рабов и наделяет землей неимущих. По этому поводу он сказал несколько возвышенных и приличествующих случаю слов о равенстве.
К несчастью, эта речь не произвела ни малейшего впечатления на Тита Фламинина. Он коротко ответил, что ни на йоту не верит, что аргосцы сами призвали Набиса. Что же касается освобождения чужих рабов и раздачи чужой земли, то он, Тит, считает это не очень-то красивыми поступками. Но он даже говорить об этом не станет, так как все это ерунда по сравнению с теми злодеяниями, которые тиран совершает ежедневно. Тут Тит со свойственной ему простотой и ясностью спокойно перечислил все преступления, которые Набис совершил только за последнее время, проявив при этом удивительную осведомленность в лаконских делах (ibid., XXXIV, 30–32).