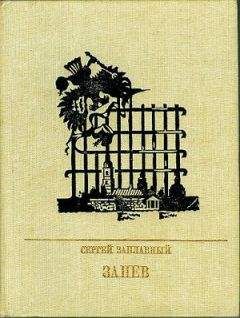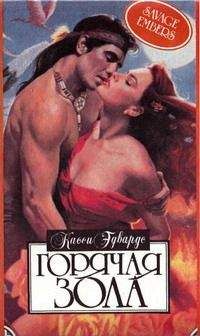Иносказания Резанцевой подкрепили скупые сведения, которые Петр выискал в двадцать девятом номере дозволенной тюремными правилами «Недели». Среди прочих благонамеренных материалов затесалась там перепечатка из «Правительственного вестника», озаглавленная недвусмысленно — «Петербургские забастовки». Кроме фактов общего порядка в ней приводились радующие душу цифры: «За подписями „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“, „Рабочего союза“ и „Московского рабочего союза“ появилось 25 различного содержания подметных листков. Самый ранний помечен 30-м числом мая, самый поздний — 27 июня». Это значило: «Союзы борьбы…» появились не только в Петербурге, но и в Москве, и в других городах. Вспыхнула настоящая забастовочная война. Владимир Ильич добился-таки своего, а ныне, судя по словам Резанцевой, еще и прокламация из Дома предварительного заключения пишет…
Петру стало стыдно за себя. Вот ведь Ульянов нашел способ действовать, неужели ему легче?..
— В августе Миша в беду попал, — продолжала Розанцева. — Голубятня у него сгорела. А ведь Пожарским себя мнил. Верно, не он один неудачливым оказался, соседские ребятишки тоже — Степка-Хохол, Надя-Минога, Булочкины… А домашним каково? Боязно малышей одних дома оставлять, да что поделаешь? Приходится. Одни петушатся, другие обезьянничают…
Петр пригорюнился: выходит, Сильвин, Крупская, Радченко, Невзоровы тоже арестованы, а в «Союзе борьбы…» остались одни «молодые»…
— Как там Дяденька?
— Ты уж меня прости, Петя, но всех твоих дядей и тетей я знаю только понаслышке. К ним Соня ближе. А я сужу со слов ее подруг. Могу спросить, если хочешь…
Вот оно что: Резанцева посвящена в дела «Союза…» неглубоко. Она лишь посыльная, добросовестно пересказавшая текст, составленный теми, с кем до своего ареста ее познакомила Соня Невзорова. Все равно умница.
— Мне разрешили приносить тебе еду и книги. Что бы ты хотел?
— В еде я непривередлив, Маша. А из книг хорошо бы получить полный немецко-русский словарь. Лучше всего небольшого формата. Буду упражняться в чтении германских литераторов. Еще пришли перьев… Номер восемьдесят один.
— Восемьсот один? — поправила его Резанцева.
— Возможно. Но мне запомнилось — восемьдесят один… Маленькие такие, белые. Ими удобно писать. Если сама не сможешь, попроси Сониных подруг. Именно эти перья и что-нибудь из немецких авторов. На твой вкус. Они известные сказочники. А я тут как дитя малое. Соскучился по простеньким историям с принцами и принцессами, с говорящими животными и прочей выдумкой. Принесешь?
— Принесу, Петя, обязательно принесу! Деньги на твое имя я уже записала. Плед куплю в ближайшее время. Мне разрешили.
— Спасибо, Машенька… Как мне тебя не хватало…
И правда, чудесное появление Резаицевой вызвало в Петре прилив бодрости. Первым делом он решил привести себя в порядок. Не очень надеясь на успех, заявил надзирателю, что нуждается в услугах платного парикмахера. К нему тут же — ну не удивительно ли? — допустили мастера с Литейного проспекта. Мастер взял вдвое против положенной за стрижку цены, зато и постарался на совесть.
Глянув в зеркальце, Петр не узнал себя: куда подевались поникшие, неухоженные волосы; они сделались пышными, борода приобрела приятные очертания, открылась крепкая высокая шея, лицо как-то сразу помолодело, стало не таким мрачным и каменным.
Ободренный первым успехом, Петр потребовал ведро воды, тряпку, вымыл стены, привычно натер воском пол, прибрал на столе, на посудной полке. Успокоился лишь тогда, когда камера приобрела «жилой вид».
Через несколько дней надзиратель принес книги от Резанцевой: словарь немецкого языка и «Необычайную историю Петера Шлемеля» — сказочную повесть Адельберта фон Шамиссо о злоключениях человека, потерявшего свою тень.
Дрожа от нетерпения, Петр отыскал восемьдесят первую страницу, пригляделся… Ур-ра! Вот они, иголочные знакн над буквами!.. С воли сообщали: Старик в 193-й камере, прогулка у него в семь утра, в девятом «шпацир-стойле». Там же во вторую смену бывает Минин (Ванеев), у него хроническая пневмония, но освобождения ему не дают, лишь втрое удлинили прогулки. Друзья держатся стойко, да вот беда — Акимов и Зиновьев излишне откровенны, от них утекают важные факты о группе. Пожарский (Сильвин) и другие переведены из ДПЗ в Петропавловскую крепость. Галл, зубной врач Михайлов и Волынкин — прямые провокаторы, сдавшие «Союз…» охранке…
Василия Волынкина Петр знал мало. Одно время этот веселый, пройдошистый парень трудился на фабрике Тарнтонов, потом уволился, но скоро вернулся. Ему известно окружение Шелгунова, Меркулова и других рабочих руководителей Невского района. В памятные дни ноября он сообщил Кржижановскому, на какие сорта товаров и в каком размере сделаны сбавки у Тарнтонов, помогал Филимону Петрову остановить работу ткачей. Многих из группы Волынкин запомнил в лицо, в том число Старика. Опасный свидетель.
Весточка с воли опечалила Петра, но и ободрила. Благодаря ей отрывочные сведения, полученные за восемь месяцев пребывания в Доме предварительного заключения, сложились воедино. Появилась определенность, а это всегда легче, чем неизвестность.
Вскоре Петру передали новую посылку от Резанцевой. Все в ней было искромсано — ветчина, сыр, вяземскне пряники и даже яблоки. Это бдительные тюремщики поработали в поисках тайных вложений.
Ярость захлестнула Петра. Не владея собой, он запустил в надзирателя куском ветчины… И получил карцер.
Карцер не имел окон, отдушин, светильника. Стены в нем были некрашеные, на них наросла слизь. От спертого воздуха у Петра пошла носом кровь. Но хуже всего действовала на душу могильная тишина. Она давила на уши, доводила до обмороков.
Как мог, Петр сопротивлялся ей — сняв с ног коты, отбивал ими строевой шаг, изображал цокот копыт, беспорядочные движения толпы, удары, возню… Там, где недоставало стуков и хлопков, он принимался насвистывать, трубить, кричать, меняя голоса. Ему казалось, что карцер содрогается от производимого им шума. На самом деле удары кожаных туфель и крики были едва слышны.
Тьма разъедала глаза, но Петр страшился закрыть их, чтобы не оборвать связь с внешним миром. Сознание цеплялось за боль. Боль помогала превозмочь слепоту и одиночество. Еще отец наставлял: «Ничего не бачит тильки тот, кто не хоче быть зрячим».
Петр хотел видеть — если не глазами, то воображением, памятью. В голове стучало: «Я не имею права уподобиться Петеру Шлемелю. Я обязан сохранить свою тень — даже здесь, в темноте».
Мысли путались. Их движение стало затрудненным, болезненным. «Особый режим» Кичина и Филатьева сделал свое дело.