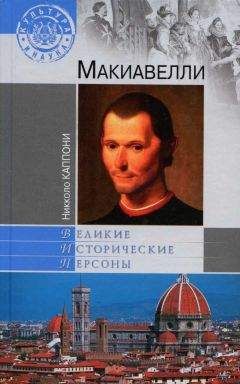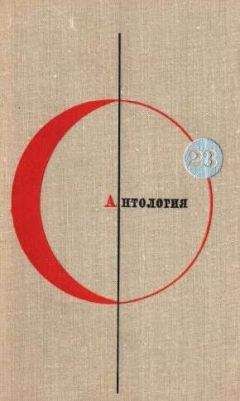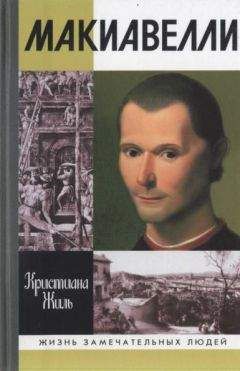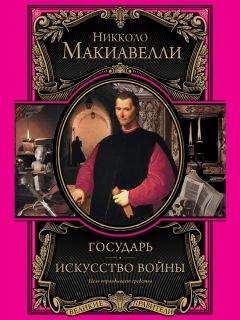Джулио, по-видимому, был ошарашен тем, что нити заговора вели в сады Ручеллаи и что все заговорщики оказались друзьями Макиавелли и теми, кто стремился восстановить «свободу» Флоренции по примерам из древней истории. Джакопо Нарди, один из членов кружка, действительно назвал Макиавелли в числе косвенно виновных в заговоре, поскольку именно он заронил идеи о заговоре в головы потенциальных бунтовщиков. «Они высоко ценили его труды, — писал Нарди, — посему Никколо можно считать отчасти виновным в помыслах и деяниях этих юношей». Другой член кружка, Филиппо де Нерли, соглашался с ним, но с важной оговоркой: «Они не были знакомы с тем, что Макиавелли изложил о заговорах в своих «Рассуждениях», в противном случае либо вообще ничего не стали бы замышлять, либо действовали бы куда осмотрительнее».
В своей книге Никколо предупреждал об опасности заговоров, считая их трудноосуществимыми и, кроме того, зачастую приводящими к непредсказуемым результатам. Так или иначе, Макиавелли не угодил в соучастники государственного преступления, хотя, если верить одному из заговорщиков, вопрос о его предполагаемом участии обсуждался, «но, поскольку он не был другом этому славному роду [Медичи], ни беднякам, было решено, что его участие привлечет излишнее внимание». Это утверждение весьма любопытно, ибо подразумевало, что Никколо считали ярым противником режима, невзирая на все его попытки доказать свою лояльность ему. Тем не менее не следует принимать на веру это суждение, поскольку его высказавший пытался спасти свою шкуру и заодно втереться в доверие к Медичи. Несмотря на его солидные теоретические знания о республике, Макиавелли, как и большинство его сограждан, ставил почести и выгоду (honore et utile) выше идеологии.
Макиавелли, вероятно, почуял опасность еще годом ранее, когда получил письмо из Рима от Пьеро Содерини. Бывший гонфалоньер предложил Просперо Колонне взять Никколо к себе на службу в качестве старшего распорядителя с годовым жалованьем в 200 золотых дукатов и оплатой всех расходов, «что для вас, полагаю, куда лучше, чем оставаться там, где вы сейчас, и писать исторические книги за запечатанные флорины», — убеждал он Никколо. Хотя Содерини также предложил Макиавелли тайно уехать «и прибыть сюда, прежде чем люди во Флоренции поймут, что вы покинули город». Возможно, Макиавелли и прельстило высокое жалованье, но, скорее всего, он заподозрил неладное: Колонна не только оказался близким другом кардинала Содерини, но и был на ножах с Львом X (все изменилось в июне следующего года, когда папа назначил Колонну главнокомандующим своей армией). Принять такое приглашение означало бы свести на нет годы усилий, потраченных Никколо на попытки вернуть себе расположение Медичи, завоевав статус пешки в политических играх кардинала Содерини с весьма вероятным катастрофическим итогом.
Мудро поступил Макиавелли, отделавшись от Содерини и заговорщиков 1522 года, и последствия провалившегося заговора его не коснулись. Однако многие из его друзей вынуждены были бежать из города: Дзаноби Буондельмонти, Батиста делла Палла, Луиджи ди Пьеро Аламанни и другие, тогда как Джакопо да Диаччето и Луиджи ди Томмазо Аламанни сложили головы на плахе. Вместе с заговорщиками были похоронены и проекты конституционных реформ, кардинал Джулио отныне имел великолепный повод всячески оттягивать на неопределенный срок любое решение касательно изменений властных структур Флоренции. А Никколо оставалось лишь с печалью и смятением взирать, как распадается образовавшийся в садах Ручеллаи кружок, в течение шести лет являвшийся для него интеллектуальным стимулом. Вновь Содерини с присущей им политической безграмотностью несли ответственность за все беды. Смерть Пьеро Содерини, последовавшая 13 июня 1522 года, и проклятие его семьи флорентийскими властями не принесли облегчения Макиавелли. И все же приведенная выше запоминающаяся эпитафия бывшему гонфалоньеру достаточно красноречиво говорит о его отношении к покойному Содерини.
Макиавелли впал в еще большее уныние в связи со смертью своего брата Тотто, ставшего одной из многочисленных жертв эпидемии чумы, свирепствовавшей в тот год во Флоренции. 8 июня Никколо получил письмо от гонфалоньера Роберто Пуччи, в котором тот сообщал, что Тотто при смерти и что он возьмет на себя заботы о приходе младшего Макиавелли. Никколо добивался, чтобы его брат занял какой-либо пост в церковной иерархии, и не без труда ему удалось выбить для Тотто один из приходов неподалеку от Сан-Кашано, находившихся под патронатом его семьи. Дело в том, что один из этих приходов присвоил себе один священник. Так продолжалось до тех пор, пока Аодовико, второй сын Никколо, три года спустя пригрозил, что лично возьмется за этого нечестивца священника. К тому времени Аодовико уже приобрел репутацию вспыльчивого человека, не гнушавшегося и насилием, но Макиавелли куда больше заботили иные аспекты его поведения. Возможно, сам Никколо и был бабником и даже развратником, но никогда не переходил определенных границ приличия. Он сетовал Франческо Веттори на поведение своего сына и в ответ получил любопытное послание:
«На Виа Сан-Галло, неподалеку от городских ворот, есть монастырь, известный как обитель Святого Климента. Франческо [дель Неро], будучи человеком благочестивым, стал весьма дружен с монахинями, и с тех пор, как чума поразила окрестности, он часто говорил им, что владеет поместьем — не припомню, в Патерно или Вилламанье, — куда самые молодые из них без труда могли бы уехать, дабы избегнуть близившейся эпидемии. Чума стала столь смертоносной, что пятнадцать монахинь, припомнив обещание дель Неро, отправились в его поместье. Получив ключи из рук его посыльного, они принялись молоть зерно, попивать вино и пользоваться мебелью и прочей утварью, как своей собственностью. Отдав ключи монахиням, посыльный возвратился во Флоренцию, где случайно на правительственной площади повстречал Франческо и поведал о том, что произошло. Едва услышав сей рассказ, дель Неро бросился за своим братом Агостино — можете себе представить, как он мчал, а за спиной у него трепетал плащ, — неустанно силясь до него докричаться. Догнав брата, он повелел ему запрячь в повозку шестерку лошадей, ехать в имение, а затем выгнать монахинь, если придется, то и силой, и отправить их обратно в монастырь на лошадях. Брат повиновался и выдворил монахинь, преодолев их хилое сопротивление, и эта история «дошла до Небес». А посему, что же удивительного в желании его племянника Лодовико назначить своего исповедника, когда он вдохновлен, если не этим примером, то своим отцом Энеем или, по крайней мере, дядей Гектором?[82] Но мы в преклонном возрасте стали с лишком робкими и прихотливыми, позабыв о деяниях молодости».