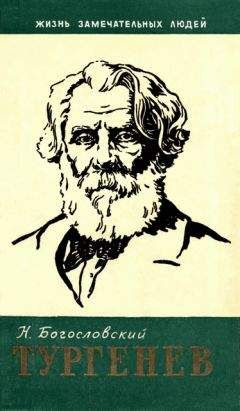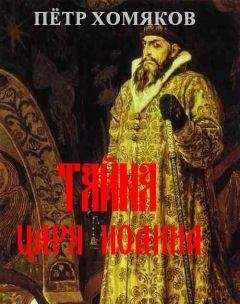Прежде чем направиться в Спасское, Тургенев должен был заехать в Петербург. А там, как и повсюду, было неспокойно. Иван Сергеевич оказался в столице в дни начавшихся в городе грандиозных пожаров. Горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта, весь четырехугольник между Кобыльской улицей и Лиговкой, от церкви Иоанна Предтечи до Глазова моста.
Пламя уничтожило множество домов между Троицкой улицей и Апраксиным рынком. Выгорели целые кварталы. Сотни людей, лишенных крова и имущества, бродили с узлами по площадям и улицам, ворота и подъезды домов были на запоре.
Проходя мимо министерства внутренних дел, охваченного пламенем, Тургенев видел в «хламе и пепле обгорелое дело о выдаче ему заграничного паспорта».
По городу распространялись провокационные слухи о поджигателях: агенты полиции обвиняли в поджогах революционную молодежь, тогда как в действительности пожары были делом их рук.
Тургенева поразило, что слово «нигилист», выхваченное из его романа, было теперь уже у многих на устах.
— Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург! — таким восклицанием встретил его первый же знакомый на Невском проспекте.
В письме к писательнице Марко Вовчок Тургенев обещал рассказать когда-нибудь о впечатлениях, вынесенных им из этого своего пребывания в России, как его били руки, которые он бы «хотел пожать, и ласкали руки другие», от которых он готов был бежать за тридевять земель.
Писателю пришлось испытать тогда тягостные впечатления. Холодность близких по духу людей и «приветствия» со стороны реакционеров показали ему, что он, по-видимому, допустил в романе какую- то ошибку или, во всяком случае, неясность, которую пытались использовать реакционеры, силившиеся любыми средствами опорочить идеи освободительного движения.
«Я готов сознаться, — говорил потом Тургенев, — что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину, и потому я признаю справедливыми и отчуждение от меня молодежи и всяческие нарекания».
Долго еще потом мучило Тургенева сознание, что из-за этой ошибки на его имя «легла тень».
Выполняя лондонское поручение, Иван Сергеевич прежде всего должен был узнать, захотят ли братья и сестры Бакунины принять к себе в дом жену опасного беглеца. Для этого надлежало ему повидаться с братьями Бакунина, но оказалось, что оба находятся в Петропавловской крепости. Незадолго до этого они были арестованы в связи с тем, что подписали адрес Александру II от тринадцати мировых посредников дворян Тверской губернии, в котором открыто было заявлено о несостоятельности правительства удовлетворить общественным потребностям при проведении в жизнь реформы.
На свидание с братьями Бакуниными в Петропавловской крепости потребовалось разрешение петербургского генерал-губернатора Суворова, который взял при этом с Тургенева слово, что разговор с узниками будет касаться лишь семейных дел.
Можно представить себе, как интересна была эта встреча давних знакомых под сводами Петропавловской крепости, где провел немало времени и старший брат Бакуниных.
Тургеневу не пришлось даже уговаривать братьев: они сразу изъявили согласие принять невестку в Премухино, коль скоро сами будут на свободе.
Соединив полученные от Налбандова деньги со своим взносом, Тургенев передал их одной из родственниц Бакунина для пересылки в Иркутск и счел на этом свою миссию пока что законченной.
В эти же дни он дважды приходил в книжный магазин Н. А. Серно-Соловьевича, которому привез пакет с важными бумагами от Герцена и с которым вел переговоры об издании одной детской книжки.
В магазине подписал на листе, выставленном от имени Серно-Соловьевича, какую-то сумму в пользу пострадавших от пожара.
Посетил тогда Тургенев и редакцию нового журнала «Время», издававшегося Ф. М. Достоевским и его старшим братом Михаилом. Тургенев пригласил братьев Достоевских вместе с их другом и сотрудником, критиком Страховым, обедать в гостиницу Клея, где занимал номер.
Вспоминая впоследствии об этой встрече в ресторане гостиницы с автором «Отцов и детей», Н. Н. Страхов отметил, что Тургенев был в тот день в каком-то возбуждении.
«Буря, поднявшаяся против него, очевидно, его тревожила. За обедом он говорил с большою живостью и прелестью, и главною темою были отношения иностранцев к русским, живущим за границею. Он рассказывал с художественною картинностью, какие хитрые и подлые уловки употребляют иностранцы, чтобы обирать русских, присвоить себе их имущество, добиться завещания в свою пользу и т. д.».
Страхов жалел, что об этих своих наблюдениях писатель не рассказал печатно.
Через несколько дней Тургенев отправился в Спасское. По случайному совпадению ему пришлось до Москвы ехать в одном вагоне с Некрасовым.
Годом раньше поэт сделал попытку примириться со старинным другом. Он писал ему тогда: «Любезный Тургенев, желание услышать от тебя слово, писать к тебе у меня, наконец, дошло до тоски. Сначала я не писал потому, что не хотелось, потом потому, что думал, что ты сердишься, потом потому, чтобы ты не принял моего писания за желание навязываться на дружбу и т. д.
Нет, ты этого не бойся — эти времена прошли, но все-таки выяснить дело не худо, чтоб я мог считать его порешенным, а то мне тысячу раз ты приходил в голову, и всякий раз неловкость положения останавливала меня от писания к тебе».
Некрасов напоминал в этом письме, что в апреле 1860 года перед отъездом за границу Тургенев почему-то не нашел времени даже проститься с ним.
«Сначала я приписал это случайности, потом пришло в голову, что ты сердишься. За что? Я никогда ничего не имел против тебя, не имею и не могу иметь, разве припомнить то, что некогда любовь моя к тебе доходила до того, что я злился и был с тобою груб.
Это было очень давно, и ты, кажется, понял это. Не могу думать, чтоб ты сердился на меня за то, что в «Современнике» появлялись вещи, которые могли тебе не нравиться. То есть не то, что относится там лично к тебе, — уверен, что тебя не развели бы с «Современником» и вещи более резкие о тебе собственно. Но ты мог рассердиться за приятелей и, может быть, иногда за принцип — и это чувство, скажу откровенно, могло быть несколько поддержано и усилено иными из друзей, — что ж, ты, может быть, и прав. Но я тут не виноват; поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал и как бы сами они иногда ни промахивались), сам бы так же действовал, то есть давал бы им свободу высказываться на их собственный страх.