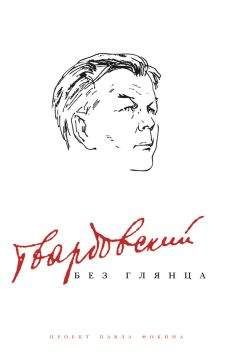Александр Трифонович Твардовский. Из дневника: «16.IХ.1962. Москва
Счастье, что эту новую (после черной клеенчатой) тетрадь я начинаю с записи факта, знаменательного не только для моей каждодневной жизни и не только имеющего, как мне кажется, значение в ней поворотного момента, но обещающего серьезные последствия в общем ходе литературных (следовательно, и не только литературных) дел: Солженицын („Один день“) одобрен Н[икитой] С[ергееви]чем.
Вчера после телефонного разговора с Лебедевым ‹…›, я даже кинулся обнять ее и поцеловать и заплакал от радости, хотя, м. б., от последнего мог бы и удержаться, – но мне и эта способность расплакаться в трезвом виде в данном случае была приятна самому.
В ближайшие дни я должен быть на месте – Н[икита] С[ергеевич] пригласит меня – завтра или в какой-нибудь другой день, – словом, Лебедев просил меня не отлучаться, даже в См[олен]ск, – все это я, конечно, понял как обеспечение моей „формы“ на случай вызова, но бог с вами!
„Он вам сам все расскажет, он под свежим впечатлением…“ Но понемногу Лебедев мне уже все рассказал, предупредив, что это все только между нами. Н[икита] С[ергеевич] „прочел“ (ему читал Лебедев – это даже трогательно, что старик любит, чтобы ему читали вслух, – настолько он отвык быть один на один с чем бы то ни было. Но так или иначе – прочел. (Каюсь на этой странице, что на это я не надеялся и, больше того, надеялся, что он не станет читать, доверится моему письму и докладу Лебедева и скажет, что, мол, пусть их там, „по своему усмотрению“. Ан – вышло куда круче!)
Прочел и, по всему, был не на шутку взволнован. – „Первую половину мы читали в часы отдыха, а потом уж он отодвинул с утра все бумаги: давай, читай до конца. Потом пригласил (или сами пришли) Микояна и Ворошилова (!). Начал им вычитывать отдельные места, напр[имер], про ковры… Вы захватите новый экземпляр, а то этот забрал Микоян“. ‹…›
Есть два-три замечания, которых я не понял в изложении Лебедева и не придал им сколько-нибудь серьезного значения в отвлечении тех минут разговора (главным смыслом). ‹…›
Но все это мелочи, я с ними слажу даже без Солженицына, хотя уже держу в уме слова телеграммы, которую пошлю ему после встречи с Н[икитой] С[ергеевичем]: „Поздравляю победой выезжайте Москву“. И сам переживаю эти слова так, как будто они обращены ко мне самому. – Счастье.
И, как всякое счастье, оно рождает в душе потребность нового, еще большего счастья, всей его полноты ‹…›.
Боюсь предвосхищений, но верится, что опубликование Солженицына явится стойким поворотным пунктом в жизни литературы, многое уже будет тотчас же невозможно, и многое доброе – сразу возможным и естественным». [11, I; 111–113]
Александр Исаевич Солженицын:
«На даче в Пицунде Лебедев стал читать Хрущёву вслух (сам Никита вообще читать не любил, образование старался черпать из фильмов). Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно смеялся, где нужно ахал и крякал, а со средины потребовал позвать Микояна, слушать вместе. Всё было одобрено до конца, и особенно понравилась, конечно, сцена труда, „как Иван Денисович раствор бережёт“ (это Хрущёв потом и на кремлёвской встрече говорил). Микоян Хрущёву не возразил, судьба повести в этом домашнем чтении и была решена. Однако Хрущёв хотел всё обставить демократично.
Недели через две, когда уже вернулся он из отпуска в Москву, получил „Новый мир“ среди дня распоряжение из ЦК: к утру представить ни много ни мало – 23 экземпляра повести. А в редакции их было три. Напечатать на машинке? Невозможно успеть! Стало быть, надо пустить в набор. Заняли несколько наборных машин типографии „Известий“, раздали наборщикам куски повести, и те набирали в полном недоумении. Так же по кускам и корректоры „Нового мира“ проверяли ночью, в отчаянии от необычных слов, необычной расстановки и дивуясь содержанию. А потом переплётчик в предутреннюю вахту переплёл все 25 в синий картон „Нового мира“, и утром, как если б это труда не составило никому никакого, 23 экземпляра было представлено в ЦК, а типографские наборы упрятаны в спецхранение, под замок. Хрущёв велел раздать экземпляры ведущим партвождям, а сам поехал налаживать сельское хозяйство Средней Азии.
Он вернулся недели через две под роковыми для себя звёздами середины октября. На очередном заседании политбюро (тогда – „президиума“) стал Никита требовать от членов согласия на опубликование. Достоверно мне не известно, но кажется всё-таки члены политбюро согласия не проявляли. Многие отмалчивались („чего молчите?“ – требовал Никита), кто-то осмелился спросить: „А на чью мельницу это будет воду лить?“ Но был в то время Никита „я всех вас дав́ишь!“ по сказке, да не обошлось, наверно, и без похвал, как Иван Денисович честно кирпичи кладёт. И постановлено было – печатать „Ивана Денисовича“. Во всяком случае решительного голоса против не раздалось». [7; 41–42]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«21.Х.1962. Москва
Вчера, наконец, состоялась встреча с Н[икитой] С[ергеевичем], которая последние 1–1 ½ м[еся]ца составляла в перспективе главную мою заботу, напряжение, а последние дни просто-таки мучительное нетерпение. И если не вчера, то лишь, м. б., накануне, мне пришла простая догадка о том, что Н[икита] С[ергеевич] знать не знает о том, что я знаю о его намерении встретиться со мной. Поэтому-то никакими обязательствами обещания, назначенности дня – как если бы я сам просил о приеме, или он уведомил меня о своем желании видеть меня – ничего этого у него не могло быть. И я не мог даже посетовать на него, – так уж все это сложилось. В четверг мне Лебедев сказал, что „либо завтра (т. е. в пятницу), либо послезавтра (в субботу)“. Пятница прошла – ни звука. Утром вчера Лебедев посоветовал окончательно: „Позвоните“. – Поехать на вертушку? – „Зачем, по городскому“. – Соединят ли? – „Я там договорился с т. Серегиным“.
Звоню: „Товарищ Серегин?“ – „Да, товарищ Серегин“, – отвечает тов. Серегин. – Нельзя ли просить… – Нет, по этому телефону он не может. Я доложу и позвоню вам. –
Не менее чем через час: „Приезжайте к нам“. – Ждал в приемной недолго – минут все же 15. Из кабинета напротив хрущевской двери вышел человек, поздоровался: „попьете чайку“. Встал навстречу, приветливо поздоровался, несколько слов насчет здоровья, возраста. ‹…›
– Ну, так вот насчет „Иван Денисовича“ (это в его устах было и имя героя и как бы имя автора – в ходе речи). Я начал читать, признаюсь, с некоторым предубеждением и прочел не сразу, поначалу как-то не особенно забирало. Правда, я вообще лишен возможности читать запоем. А потом пошло и пошло. Вторую половину мы уж вместе с Микояном читали. Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный – не вдруг пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжелого, хотя там много горечи. Я считаю, эта вещь жизнеутверждающая (это слово было в моем рукописном предисловии), в отпечатанном (20 экз.) уже не было – меня уговорили Дем[ентьев] и др. опустить это слово, хотя я, право же, не считал его вынужденным, но, верно, оно и банальное, и в сочетании с „материалом“ звучит несколько фальшиво. Вещь жизнеутверждающая. И написана, я считаю, с партийных позиций.