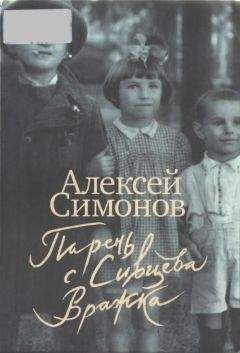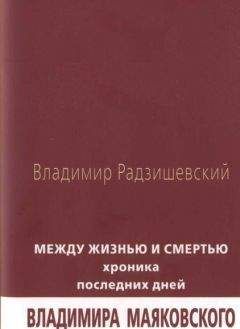Владимир Заманский (Влад), середина 60-х
Сейчас невозможно даже вообразить, что представляли собой торговые ряды, занимавшие квадрат между Ильинкой и Варваркой (тогда улица Разина) и ограниченные двумя перпендикулярными им переулками. Теперь это называется «Гостиный двор» и Михалков устраивает там съезды своих опричников, а тогда это были безнадежные задворки социализма в ста пятидесяти метрах от Красной площади. Огромное под открытым небом пространство, с вековыми двухэтажными стенами, в которых и за которыми прятались сотни помещений, принадлежащих организациям, сменявшим друг друга с унылой регулярностью. По внутреннему периметру шла галерея с когда-то элегантными, большей частью забитыми фанерой полукруглыми окнами. В отведенных под жилье Заманскому помещениях, бывших когда-то бухгалтерией и кассой унылых «Рогов и Копыт», имелось параллельно восемь разных проводок: каждый выезжающий обрезал свою, каждый очередной въезжающий проводил новую. Одних белых, похожих на эмалированные грибы, изоляторов из разделенной хлипкой перегородкой с вырезанным окном кассы комнаты мы выкинули около сотни. А весь внутренний двор, куда вход вел через единственное парадное с угла Ильинки, был скопищем учрежденческого и строительного хлама, который лень было вывозить, благо места для него хватило бы еще не на один въезд и выезд. Реквизиторские помещения находились в самом дальнем от парадного углу и представляли собой две, рискну сказать, комнаты с окнами на двор-свалку и целый лабиринт темных, лишенных даже признаков жилья помещений, где хаотично грудились какие-то ящики. Может быть, и с реквизитом. В одной из комнат с единственным целым окном и, видимо, более приспособленной для жилья, уже ютился, как было сказано выше, артист Боря Гусев, во второй, во что трудно и даже невозможно было поверить, предстояло жить Заманскому. Но в то, во что нельзя было поверить поодиночке, мы храбро и лживо поверили вместе, ибо рядом был Влад, которому изначально эта затея казалась безумием и аферой. Кто из нас был в этот момент большим Томом Сойером, красящим забор, не знаю, но мы довольно быстро содрали одну за другой все имеющиеся сети проводок и освободили подходы к перегораживающей жилище перегородке.
Так оно началось и продолжалось месяца три. Я приходил после, а иногда и вместо занятий в Университете, благо от Моховой это было рукой подать, Эмка освобождался со своих мосгазовских дежурств, и мы с ним вкалывали, осваивая одну за другой строительно-ремонтные профессии. У меня был опыт стройки, хотя отсутствовали какие-либо навыки ремонта, а у Эмки вообще были золотые руки — он все умел, или по крайней мере мне так казалось. В один из дней, придя на «работу», я обнаружил, что развалившаяся полукруглая рама, с забитыми двумя пролетами и треснувшим стеклом в третьем заменена новенькой, или, точнее, целенькой, о которой Эмка сказал с максимально возможной беспечностью: «Свистнул у неизвестных соседей». Рама — это было то, что надо; теперь, защищенные от ветра, мы могли браться за шпаклевку и побелку. Мы уже были не одни — вдохновленные нашим трудовым энтузиазмом, к нам присоединились мой приятель Дима — художник из семьи Соколовых-Скаля и неведомо откуда взявшийся Зорик Хухим — будущий кинорежиссер, оказавшийся по совместительству электриком. Каждый делал то, что умел, но основную тягловую силу представляли все-таки мы с Эмкой. Время от времени после репетиций и перед спектаклем появлялся Влад, пытался «внести трудовой вклад», но не обнаружив ни здоровья, ни сноровки, болтался под ногами, только отвлекая нас от работы. Помню как-то — мы уже стали циклевать пол, пришел Заманский, взял у меня циклю и стал усердно и виновато шкрябать ею по загаженному не одним поколением арендаторов полу. Минут через пятнадцать скептического наблюдения за его успехами мы отобрали у него инструменты и Влад, вздохнув со скрытым облегчением, со словами «я тогда сбегаю» отправился за очередной поллитровкой, что и было единодушно одобрено. Выпивали мы, как истинные работяги, отработав очередной день, довольные сделанным и незаметно ни для себя, ни для окружающих, довольные друг другом.
Комната получилась на загляденье: белая келья монастырского толка, с полукруглым окном и с семью сводами, переходящими в небольшой потолок. Сводов было точно семь, потому что в самом конце, изобразив на каждом из них черный без теней контур обнаженной женщины, наш Соколов-Скаля вписал свой вклад в овеществленный таким образом лозунг «Восемь девок — один Влад». Можно было справлять новоселье.
■
Так мы с Длинным стали «мы», и во всю мою с тех пор почти пятидесятилетнюю жизнь у меня больше не было такого напарника, который не только не считал, а просто не обращал внимания, сколько и чего ты сделал, а приходил, видел, где находится свободная лямка, и впрягался, по возможности взваливая на себя любое дело с комля, т.е. с более тяжелого, толстого конца бревна. Это было органическое Эмкино свойство, много раз потом в самых разных обстоятельствах проверенное и ни разу не давшее сбоя.
Для переезда у Заманского не было ничего. Буквально — одна подушка, одно одеяло и две пары постельного белья. И тогда мы решили обеспечить его хотя бы частью необходимого непосредственно на новоселье. Современниковская труппа только начинала свое победное шествие по экранам отечественного кино, зарплаты в театре были, мягко говоря, невелики, и поэтому мы раздали всей команде специальные приглашения следующего содержания: Дорогой имярек! Приглашаем тебя на новоселье Володи Заманского. Чтобы ты не ломал себе голову, какой подарок ты преподнесешь своему коллеге на навоселье, сообщаем, что пропуском на это мероприятие тебе послужат:
1) стакан или чашка (у всех),
2) штопор (у всех),
3)…вот эта часть у каждого была разная: от двух глубоких тарелок до кухонного ножа, от разводящего и шумовки до средней величины кастрюли, ну и так далее вплоть до стульчака для унитаза, который мы вписали в приглашение «фюреру», т.е. Олегу Николаевичу Ефремову.
Забегая вперед, скажу, что после новоселья Влад стал обладателем восемнадцати стаканов и двенадцати штопоров, а также значительного количества разномастной домашней утвари. Только стульчак ему потом пришлось покупать самому, потому что, к нашему с Эмкой глубокому огорчению, Олег Николаевич не счел нашу шутку удачной и принес какую-то хозяйственную фигню, испортив нам весь демократический замысел. С тех пор, причем иногда вполне серьезно, я утверждаю, что будущий раздрай в «Современнике» начался именно с этого места, с ложно понятого авторитета его вождем-основателем, художественным руководителем и режиссером-постановщиком.