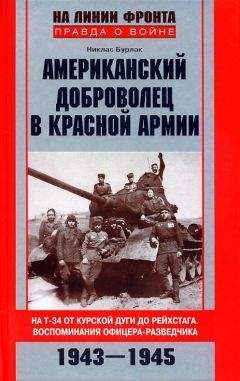На роль историка, в оппоненты Шульгину, назначили вальяжного артиста, часто игравшего мудрых ученых. Для артиста написали и текст – перечень вопросов, которые должны были сразить и опозорить Шульгина перед кинокамерами и всем прогрессивным человечеством. Эрмлер, зная, что он будет иметь дело с девяностолетним стариком, вызвал в павильон врачей скорой помощи с грелками и шприцами.
– Вы правильно сделали, – сказал Шульгин, – этот старикашка, – показал он на Эрмлера, – так волнуется, что долго не протянет.
«Старикашке»-Эрмлеру в это время было около пятидесяти. Шульгин и дальше продолжал вести себя нештатно. В ответ на команду Эрмлера «камера», Шульгин крикнул «стоп» и попросил больше никогда при нем слова «камера» не произносить – в большевицких камерах он уже, дескать, насиделся и слышать этого слова не может.
– Если есть у вас другое подходящее слово, то вы его и говорите, – разрешил Шульгин.
На съемках у Эрмлера постоянно толпились ленфильмовцы – слушали Шульгина. Все аргументы противника он опровергал с легкостью. Он и его визави представляли два разных мира и времени. Шульгин попросился из Парижа в Россию, чтобы здесь умереть. Сейчас он был весел и внутренне свободен. Нанятый же артист был воплощением несвободы. Шульгин ощущал себя независимым, потому что таковым был всю жизнь, а «историк» мучительно «делал вид». Фальшь была вопиющая! В итоге, сначала запретили появляться на этих съемках посторонним, а потом тихо свернули картину и никому ее не показывали. Картина и этот «историк» сами себя разоблачили.
«Царевича» приняли, в общем, хорошо. Нашим фильмом закрылся Московский международный фестиваль. Фильм поехал в Париж, потом – в Канны, на неделю российской культуры. Кое-какие прибавки по нашему внутреннему счету тоже были. Дебютант Алеша Зуев обратил на себя общее внимание. У него получилась серьезная роль – правдивая и лирическая. Дебют, можно сказать, состоялся. В новом качестве показалась и Людмила Зайцева. После «Здравствуй и прощай» ее, как у нас бывает, постоянно приглашали на роли уже сыгранных ею разнообразных «Шурок». В роли Евдокии Лопухиной она открылась как трагическая актриса. После простоватого Федора – любимого мужа Ксении – Любшин замечательно сыграл вельможного интригана графа Петра Толстого. Любшинский Толстой – ой, как был не прост! Предавая, он плакал над жертвой. Убивая, он жертву утешал. Всегда, с каждой работой, в Любшине открываются какие-то новые грани. Вернее, он сам в себе их открывает необыкновенным трудолюбием и одержимостью.
После «Царевича», прогуливаясь в Каннах по набережной Круазет, я строил планы. Во-первых, сократить «Охоту» на злосчастные двадцать три минуты. Во-вторых, поразмышлять над заключительной частью трилогии – над «Бедным Павлом». Я даже нашел эпиграф, объединяющий все три картины. Это будут слова Фридриха Шиллера: «Проклятье злого дела в том, что вновь и вновь оно рождает зло».
И вправду: убийство царевича Алексея, уничтожение Петром преемственности во власти привело к цепи переворотов. Смута привела, в конце концов, к беззаконному воцарению Екатерины. А постоянный страх за власть и трон заставлял беззаконную императрицу вступать в борьбу даже с несчастной Таракановой. Все тот же страх и ее ненависть к сопернику – родному сыну сделали и Павла тем, чем он стал – неуравновешенным, мнительным властелином, который в деяниях своих руководствовался лишь ненавистью к покойной матери. Причины и следствия тут разорваны временем, но они едины. И вообще, история – это бесконечный, полный драматизма процесс преодоления человечеством собственного варварства, тяжкий процесс самопознания и самосовершенствования человека. Задача трилогии – сочувственно следить за этим процессом и за людьми, которые, не ведая того, эту самую историю творят.
Так, самонадеянно философствуя, я прогуливался по набережной Круазет до тех пор, пока на меня не свалился полновесный исторический факт. Я обнаружил, что мои соотечественники – новые русские – ведут себя как-то странно, собираются кучками, размахивают руками и что-то бурно обсуждают. Они почему-то не пьют, не едят и не фотографируются. Ветер доносит только слово «дефолт», произносимое с разными интонациями. Я не знал слова «дефолт», но на следующий день в Москве сразу с ним познакомился. «Дефолт» означал, что моих скромных сбережений уже нет и что мои далеко идущие планы, мягко говоря, несвоевременны. Был август тысяча девятьсот девяносто восьмого года.
В нашей студии «Голос» денег не было и быть не могло, даже если бы мы придумали суперзавлекательный проект. По случаю дефолта запрещено было затевать новые проекты. Деньги давали только на завершение уже начатых, а начать нельзя было, потому что… и т. д. Разорвать этот замкнутый круг мог только невероятный случай. Если б, например, к нам в студию пришел вдруг сумасшедший или пьяный миллионер и сказал: «Ребята! Берите денежки и начинайте!» Пьяные миллионеры уже иногда попадались, но денег они не предлагали.
Оставалось только бродить по пустынному «Ленфильму» и мечтать о чудесной случайности.
– Ну, вот поступил же я диким образом во ВГИК? Это же чистая случайность! – утешал себя я. – А встреча с товарищем Кузаковым?
Я стал вспоминать всякие счастливые случайности – свои и чужие. Вот, например, был невероятный случай с Володей Басовым. В сорок четвертом году он ехал с фронта по ранению в Москву и по дороге узнал, что его мать эвакуировалась, а где ее искать неизвестно. На какой-то узловой стации Басов вышел в ожидании пересадки. Он бродил по переполненному залу ожидания, перешагивая через спящих, и вдруг обнаружил, что чуть не наступил на собственную мать – измученная скитаниями, она спала прямо на бетонном полу. Возможна ли такая встреча в многомиллионной воюющей стране? Оказывается, возможна!
С тем же Басовым был и другой случай. Вдвоем с нашим однокурсником Славой Корчагиным они снимали фильм «Школа» – по Гайдару. Еженедельно один из них летал из Киева в Москву с отснятой пленкой. Пришел черед лететь Басову. В аэропорту они пообедали, но Басов выпил лишнего. У трапа его в самолет не впустили.
– Этого я не впущу! Пусть вон тот летит! – показала стюардесса на Корчагина.
Самолет разбежался, набрал высоту и на глазах у Басова разбился. Володя всерьез поверил в могущество случая и потом частенько выпивал больше, чем нужно, «на всякий случай».
Басов часто и бурно влюблялся, взахлеб рассказывал о своих невестах и о каждой обязательно говорил, что это его «счастливый случай». Таких случаев у него было четыре или пять – точно не помню.